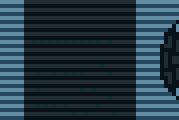Савелий парфенов в контакте. Необыкновенная история из жизни прапрадеда савелия. Уникальная дорогая игрушка
T -
Савелий, спаситель утопающих:
Маруся, до русификации Марыся, жена Савелия:

Фёдор, апостол Савелия:

12 ноября 1889 года в селе Волышове Порховского уезда Псковской губернии кидали жребий, и нашему прапрадеду, Савелию Кутузову, крупно не повезло, потому что он его вытянул. Выслушав горестные причитания матери и вытерпев пренебрежение деда Фёдора («Да рази ето слушшба? Пять годов да всего и делов-то, эээх. И оружья в руках не успеет подержать»), Савелий своим ходом добрался до Пскова, где ему выдали обмундирование и отправили сначала в Вильно, а потом в польское местечко под названием Здуньска-Воля.
Это «потом», впрочем, произошло не сразу, а спустя три с половиной года. Тогда Савелий уже успел показать себя с хороших сторон и находился в чине младшего унтер-офицера.
Главными достопримечательностями Здуньска-Воли были ткацкая мануфактура и армейский гарнизон. Гарнизон был размещён именно там, чтобы держать под присмотром заражённое идеями польского возрождения и социал-демократии население соседней Лодзи, но при этом не травмировать его присутствием русских штыков в черте города. Прапрадед Савелий, однако, мало смыслил в вопросах политики. С его простой унтер-офицерской точки зрения, гарнизон вполне мог быть расквартирован в Здуньска-Воле единственно из-за того, что местные прачки были все как одна молоды, милы, румяны, незамужни и порой благосклонны к движениям души солдата.
Ах, господа, спросим себя, не кривя душой: какая женщина может быть обаятельнее молодой польской прачки конца XIX столетия, с её пышущей здоровьем фигурою Афродиты, с вечно красными руками, с милою улыбкой, с изящными чертами лица, исполненными скромного благородства, вообще свойственного польской расе? Савелий происходил из древнего крепостного рода, по спинам которого барские розги начали гулять ещё при Василии Тёмном, и господином, конечно, не являлся. Но и у него был только один ответ на сей вопрос: никакая.
Уходя в армию, Савелий не оставил в родном селе безутешной невесты. Сызмальства он был лопоух, тощ, непропорционально длинен и прозывался «Савка-жердь». Как будто этого было недостаточно, мужики из семейства Кутузовых слыли самыми ленными и негодными работниками в селе.
Сложилось это мнение так. В 1762 году граф Лев Волышов, служивший в Петербурге, проспал дворцовый переворот, посадивший на трон Екатерину II, и на его гвардейской карьере был поставлен жирный высочайший крест. Ему ничего не оставалось, как удалиться в своё имение и заняться разведением лошадей и разбивкой огромного сада по аглицкому образцу. Для удобства эксплуатации он формально перевёл своих крепостных с барщины на оброк и привлёк всех - от мала до велика и дряхла - к садовой и конюшенной повинности.
С тех пор мужики в Волышове и прилегающих деревнях разделились на две категории. Те, что были приписаны к саду и без конца таскали булыжники или срывали и вновь насыпали холмы, создавая аглицкий колорит, считались трудолюбивыми и надёжными. Те же, что каждый день под уздцы выгуливали по округе чистокровных -ких жеребцов и кобыл, а потом чистили им щёточкой круп и расчёсывали специальным гребнем гриву, приобрели репутацию белоручек и барских нахлебников - сколько бы они ни горбатились на своих наделах в свободное от лошадей время.
(Эта кастовая система так глубоко укоренилась в крестьянском сознании, что просуществовала до самого 1930 года, когда все «конюшные» семьи в Волышове раскулачили и отправили в Сибирь. Кутузовы к тому времени, правда, перебрались в другое село.)
Мужикам Кутузовым в этом отношении не повезло особенно, ибо в придачу к табунам -ких жеребцов граф Волышов содержал целый выводок пони. Прапрадед Савелия, седобородый и высоченный Василий Кутузов, неоднократно валялся в ногах у графа с криками «батюшка, не погуби!», вымаливая для своей семьи избавления от ухода за «басурманским лошадёнкам». Он резонно намекал, что уж к этому-то можно было бы привлечь баб или ребятишек. На что граф обычно приказывал собрать всех Кутузовых на конюшенном дворе и, пока их секли, вышагивал рядом, добродушно просвещая тёмное мужичьё: «За чистокровной лошадью дОлжно ухаживать исключительно мужчине!»
В тяжёлом для Отечества 1812 году сын графа, Николай Волышов, в патриотическом порыве пожертвовал всех пони на нужды армии. Но было поздно. Полвека выгуливания и расчёсывания ни на что не годных маленьких лошадок ославили род Кутузовых навсегда.
Вот в силу каких запутанных исторических причин прапрадед Савелий впервые ощутил на себе женскую благосклонность лишь тогда, когда оторвался корней и очутился в Царстве Польском, в окружении армейского устава, жидов и ляхов. Последние, впрочем, как раз подвергались интенсивной русификации. К счастью, не особенно успешно.
Прачку, оказавшую благосклонность прапрадеду Савелию, звали, разумеется, Марыся. Точнее — Марыся Пащчиковяк. В русле проводимой политики русификации, Савелий переименовал Марысю в Марусю и стал стираться только у неё. Помимо уже перечисленных родовых признаков здуньска-вольских прачек, Марыся обладала ростом под стать Савелию, задушевно пела народные песни и была не прочь перейти в православие. Если родовые признаки разожгли в Савелии чувственную страсть, то пение Марыси и её тяга к истинной вере запали ему прямо в душу.
Мать и обе младшие сестры Марыси также были прачками и встречали Савелия весьма приветливо. Отец, Ксаверий Пащчиковяк, работал в мануфактуре. Как самопровозглашённый ветеран восстания 1863 года, он считал своим долгом смотреть на Савелия с глухой ненавистью за поруганную Родину. Эта ненависть, впрочем, обычно проходила под действием приносимой Савелием сливовой настойки. В 1863 году, в славные дни восстания, отцу Марыси было одиннадцать лет.
Полтора года прапрадед Савелий исправно посещал аккуратный домик, где жила Марысина семья, водил Марысю на романтические прогулки и за чаркой рассказывал её отцу, что семейство Кутузовых - самое зажиточное крестьянское семейство в Порховском уезде. Чтобы добавить убедительности этому заявлению, Савелий описывал тучные стада на заливных лугах, бескрайние поля золотой ржи и всеми уважаемого патриарха Фёдора Платоновича Кутузова, у которого молодой граф Волышов как-то одолжил тысячу рублей, да так и не отдал, паскудник. Когда Марысин отец спрашивал Савелия, чего ж он с такими средствами не откупился от призыва, Савелий привставал из-за стола, тряс кулаком и заявлял, что в Кутузовской роде нихто ишшо не бегал от государевой службы. Это заявление Савелия соответствовало действительности. От рекрутского набора, под который время от времени попадал какой-нибудь прогневивший барина Кутузов, сбежать всегда было затруднительно.
Несмотря на такую сознательность, по прошествии пяти лет Савелий с превеликим удовольствием оставил государеву службу, то есть демобилизовался. Перед отъездом из Здуньска-Воли он в последний раз распил с не-паном Пащчиковяком бутыль сливовой настойки и произнёс похвалу польскому национальному характеру и польской колбасе. Затем, на волне достигнутого успеха, он увёз Марысю в Лодзь, где и сочетался с нею законным браком по православному обряду.
Так Марыся окончательно сделалась Марусей и нашей прапрабабкой, и так началась необыкновенная история, которую я сейчас расскажу.
Из Лодзи молодожёны направились прямо в Волышово. Увидев воочию прототипы тучных стад (четырёх коровёнок в покосившемся хлеву) и унылые псковские луга, Маруся Кутузова закатила Савелию грандиозный скандал и потребовала немедленного переезда в ближайший центр цивилизации. Савелий, чувствуя родную почву под ногами и патриарха деда Фёдора на печке, хотел было показать жене, где зимуют раки и кто в доме хозяин. Но Маруся отвесила ему несколько оплеух и стала собирать вещи.
Это было неслыханно. Всё Волышово сбежалось под окна Кутузовского дома. В собравшейся толпе бурлили антипольские настроения. Пока Маруся укладывала вещи, волышовские бабы предложили Савелию наставить строптивую ляшку на истинный домостроевский путь.
— Ишь раздикуясилась, королевна, - сказали они. - Мы щас ейные роги-то пообломаем.
Однако пять лет в западных губерниях испортили Савелия. Он наотрез отказался от помощи волышовских баб. Избегая осуждающих взглядов общины, он заложил телегу, погрузил на неё Марусины вещи, кинул рядом мешок со своим барахлом и уехал из Волышова - как вскоре выяснится, навсегда.
По прибытии в Псков чета Кутузовых остановилась в маленькой каморке в доме Гордея Никифорова, с которым Савелий познакомился и сдружился в учебной команде в Вильно.
Незадолго до производства Савелия и Гордея в унтер-офицеры в их бригаде произошла дуэль между поручиками Раухманом и Невольским. Поручик Раухман, будучи нетрезв, непреднамеренно стряхнул пепел в тарелку, из которой поручик Невольский кушал брюквенную похлёбку. Невольский, недолюбливавший Раухмана, воспринял этот жест как формальное оскорбление и, выплеснув похлёбку на мундир последнего, потребовал у него сатисфакции. Под нажимом подполковника Щепецкого, страстного охотника до чужих поединков, Раухман, обычно готовый извиниться за всё и перед всеми, принял вызов. В тот же вечер бригадные обер-офицеры перезаключали друг с другом пари об исходе поединка, причём Щепецкий заключил пари с каждым, включая бригадного генерала и самих Раухмана и Невольского. В утро поединка учитель бригадной учебной команды подпоручик Тишкин, поставивший один против десяти на получение Невольским смертельной раны в живот, сгорал от нетерпения узнать кто кого и послал Гордея быть в кустах в непосредственной близости от стреляющихся. Гордей явился на место поединка за сорок минут до его начала и, не обнаружив нигде подходящих кустов, взобрался на сосну, где счастливо задремал. Выстрел Раухмана прервал его сон. Раухман был большим поклонником Лермонтова и, понятное дело, выстрелил в воздух. Однако при этом его несколько ослабевшая от продолжительного стресса рука находилась под углом в 70 градусов к земле, и в следующее мгновение уютно свернувшийся в ветвях Гордей рухнул на эту землю без одного указательного пальца и с раздробленной коленной чашечкой. Пока он падал, поручик Невольский, не увлекавшийся Лермонтовым, выстрелил в Раухмана и убил молодого романтика наповал.
Так Гордей не стал унтер-офицером. Вместо этого он был найден более не годным и досрочно вернулся в Псков. В Пскове, несмотря на увечье, Гордей включился в развитие капитализма и формирование гражданского общества. За два года он приобрёл некоторый вес в обеих областях, хотя каким образом ему это удалось - я сказать не в состоянии.
— Занятье нынче сыскать дело немудреннОе, — сказал Гордей Савелию, прихлёбывая чай и машинально постукивая костылём по ножке стола. - Марусю твою, стало быть, определим по ейной должности, к Серафиме Кузьминичне в прачешную. А тебя, думаю, в общество спасенья на водах возьмут. Спасителем.
Губернское Общество спасения на водах появилось в Пскове за полгода до того и только вставало на ноги. Оно насчитывало десять действительных членов и пока не успело никого спасти или научить плавать.
Следуя указаниям Гордея, Савелий явился к Председателю Общества и на вопрос «тебе чего?» профессионально гаркнул: «Ааатставной артиллерии младшой унтер-офицер Савелий Кутузов, крестьянИн, урожённый в селе Волышове Порховского уезду, по протекции Гордея Никифорова!»
Председатель, муж двоюродной племянницы губернатора дворянин Опочкин, оторвался от карточной партии с вице-председателем и прямо спросил Савелия, умеет ли тот плавать. «Никак нет!», сказал Савелий. Тогда Опочкин спросил его, желает ли он состоять на должности спасителя утопающих и получать двенадцать рублей в месяц.
В роду Кутузовых ещё никто не состоял ни на одной оплачиваемой и к тому же столь интеллигентной должности. Савелий немедленно согласился. Вице-председатель записал его имя в бумаги, выдал ему значок Общества и велел каждое утро являться к дому Опочкина, имея при себе картуз и махорку. Всё остальное, что надо для спасенья утопающих, сказал вице-председатель, будет выдаваться на месте.
Весь вечер накануне первого рабочего дня обязанности спасителя утопающих пугали Савелия своей неизвестностью. Гордей, стремясь укрепить дух Савелия, уверял его, что чёрт не так страшен и что бывший подопечный подпоручика Тишкина может всё. Маруся, обрадованная внезапным вознесением мужа в белые воротнички, обещала в ближайшее же воскресенье свести Савелия на реку и научить плавать.
До той поры, говорила она, всё как-нибудь обойдётся.
Однако поход на реку не понадобился. В первое же рабочее утро двоюродная племянница губернатора, дворянка Опочкина, выдала Савелию лопату и велела выкопать пруд в дальнем углу сада. Как оказалось, из всех обязанностей на новой должности одно копание пруда имело хотя бы косвенное отношение к утопанию и плаванью вообще. Когда пруд был готов, Савелий переключился на уход за яблонями, заготовку дров для кухни, ремонт ограды, строительство нового сарая и эпизодический присмотр за тремя малолетними отпрысками Опочкиных. Доверили ему и заботу о лошадях. Лошадей, как и отпрысков, Опочкины имели три штуки. Пони среди них не было, и потому должность спасителя утопающих вполне удовлетворяла Савелия.
Пока Савелий за 12 рублей в месяц упрочивал благосостояние родственных губернатору Опочкиных, Маруся вынашивала под сердцем нашего прадеда Михаила и подвергалась нещадной эксплуатации со стороны Серафимы Кузьминичны.
Муж Серафимы Кузьминичны, мещанин Курков, имел радикально-консервативные, ксенофобо-шовинистические, оголтело антизападные политические воззрения. Позднее Курков стал одним из первых членов «Святой дружины», «Белого знамени», «Двуглавого орла» и большинства других черносотенных организаций, а также призывал единомышленников к проведению в Пскове еврейских погромов, которые, правда, не состоялись из-за отсутствия в Пскове сколь-нибудь заметного числа евреев.
После евреев Курков больше всего ненавидел поляков. Поляков, периодически говорил Курков своим домашним за ужином, надлежит всех поголовно закрепостить, запретить им говорить по-польски и вслед за евреями выслать на рудники в Сибирь. Радикализм Куркова в польском вопросе усугублялся тем обстоятельством, что поляки в Пскове имелись во вполне заметном количестве. Этих приживал, осквернявших своим присутствием древние русские земли, Курков предлагал в массовом порядке вздёрнуть на дубах и осинах. Серафима Кузьминична, помыкавшая мужем во всех остальных вопросах, беспрекословно признавала его авторитет в национальной политике. Она сразу же учуяла этнический бэкграунд Маруси, равно как и Марусино интересное положение, и решила устроить ей прерывание беременности естественным путём, то есть при помощи двенадцатичасового рабочего дня, едкого низкокачественного мыла и бесконечных партий портянок из Псковского кадетского корпуса. Само собой, одиннадцать других прачек, работавших на Серафиму Кузьминичну, находились в таких же условиях. Однако при появлении заметной брюхатости им всё же дозволялось работать всего по девять часов, занимаясь, в основном, полосканием и не имея дела с портянками.
Маруся, как уже говорилось, была здоровой и выносливой девушкой. Несмотря на то, что в Здуньска-Воле запах мыла, применявшегося у Серафимы Кузьминичны, повалил бы в бессрочный обморок всё население, Маруся относительно благополучно достирала до середины седьмого месяца беременности. Остальные прачки шёпотом сочувствовали ей и старались, чтобы она работала как можно ближе к приоткрытому окну. Но ресурсы человеческого организма, увы, не безграничны. В один довольно жаркий день в середине августа Маруся всё-таки лишилась чувств. Через несколько минут на открытом воздухе она пришла в себя, сняла фартук и, придерживая живот, направилась к работодателю.
Серафима Кузьминична сидела под сенью антоновской яблони и пила чай с бубликами и земляничным вареньем. Маруся, сказав несколько фраз по-польски, смахнула со стола бублики и самовар, размахнулась и влажной красной рукой отправила Серафиму Кузьминичну в нокаут.
К счастью для четы Кутузовых, малолетние отпрыски дворян Опочкиных успели привязаться к спасителю Савелию. В пруду, который он выкопал, прижились караси, сарай был закончен раньше срока, а лошади ржали как никогда сыто и довольно. Председатель Опочкин помог умерить далеко идущий гнев Серафимы Кузьминичны, но ни о какой работе для Маруси в Пскове больше не могло быть и речи. Савелий было заикнулся о возвращении в Волышово, где можно было гарантированно гнуть спину на свежем воздухе и до самой старости, но Маруся даже не дала ему договорить. После сознательного столкновения с эксплуататором в её душе возгорелось пролетарское пламя. Сельская жизнь была этому пламени классово чужда.
Савелий обратился за советом к Гордею.
— А чего тут думать-то? - сказал Гордей. - В Питер ежжать надо.
Столица представлялась Савелию враждебным холодным местом из лаконичного стихотворения, которое он знал с детства: «Родители! Я в Питере, / живу на хворосту. / Пришлите денег поскорее, / я приеду к Рожжеству». На это Гордей сказал: раз там живёт сам Государь, значит всё не так худо. Затем он дал Савелию адрес своего деверя. Деверь, по словам Гордея, жил где-то недалеко от Государя и трудился в строительной артели.
Перед тем, как заложить телегу и тронуться на север, Савелий пошёл в Общество спасения на водах за рекомендательной бумагой. Председателя Опочкина в тот день не было. Вице-председатель раскладывал пасьянс и время от времени смотрел на спину Александра II, памятник которому виднелся в окне.
— Уезжаешь, Савка, стало быть? - спросил вице-председатель.
— Это мы запросто, — сказал вице-председатель.
Он выдвинул один из ящиков стола, вынул оттуда пресс-папье, шахматную доску и ломоть заплесневелого сыра, повертел сыр в руке, ещё порылся в ящике, вытащил потёртую папку, взял из неё лист бумаги, в верхней части которого были изображены раскинувший руки мускулистый мужской торс и восхищённо глядящая на него женская головка, обмакнул перо в чернильницу и написал «Сим удостоверяется, что отставной артиллерии мл. унтер-офицер, уроженец села Волышова Порховского уезду Псковской губ. Савелий Кутузов, состоя будучи на должности Спасителя У».
— Тьфу ты, скотина, чернила вышли, — сказал вице-председатель, одним глазом заглядывая в чернильницу.
— А много ишшо писать-то? - вежливо спросил условно грамотный Савелий.
Вице-председатель задумчиво посмотрел на написанное. Потом на Савелия. Потом снова на написанное.
— Да не, — сказал он наконец. - Всё, почитай, на месте. Вот печать только приладим.
Получив рекомендательную бумагу с огромной гербовой печатью Общества, Савелий горячо поблагодарил вице-председателя и откланялся. Дома он немедленно погрузил в телегу жену и пожитки и стал прощаться с Гордеем. Казённая бумага наполнила его решимостью.
— Ну, с Боженькой. А то подождал бы, пока Маруська разродится, — сказал Гордей.
— Да уж лучше с брюхом ехать, чем с дитём, — поспешно заметила жена Гордея.
Она давно собиралась поселить в каморку своего младшего брата.
— И то верно, — искренне согласился Савелий.
Так прадед Михаил поехал появляться на свет в блистательный Петербург, где вызревали Серебряный век русской поэзии и революционная ситуация.
Даже если вы не бывали в Псковской области, вам, верно, хватит силы воображения представить, какие там дороги сейчас и какими они были в 1895 году, так что особой нужды их описывать я не вижу. Если бы случился тогда дождливый август или если б телега, на которой ехала чета Кутузовых, двигалась по ухабам быстрее, чем она двигалась, прадед Михаил вынужден был бы родиться раньше положенного и, как все недоношенные дети, мог бы стать великим полководцем или учёным - если бы сразу не умер. Но дожди не шли уже недели две, а лошадёнка Савелия была немолода и переставляла плохо подбитые копыта со скоростью 4,1 километра в час. Это не оставляло прадеду Михаилу никаких шансов на величие. Маруся комфортабельно сидела среди котулей и соломы и вполголоса мурлыкала польские народные песни. Савелий большую часть времени дремотно покачивался взад-вперёд, вяло сжимая в руке вожжи и жуя потухшую самокрутку. Мимо проползала скромная российская природа и многочисленные деревни и сёла, большинство из которых к настоящему времени полностью обезлюдели и заросли крапивой, лопухами и люпинами. Ещё мимо проплывали поля и покосы. На их месте позднее тоже выросли люпины или смешанные леса, ещё позднее поваленные и местами никуда не вывезенные в связи с непреодолимыми трудностями транспортировки.
Учитывая темп, взятый лошадёнкой Савелия, дорога до Петербурга, с ночлегами и остановками на меланхоличное жевание травы, должна была занять около недели. Когда в первый раз свечерело и яркие августовские звёзды, не дождавшись ещё, когда совсем дотлеет закат, начали высыпать на небо и т. д., Савелий остановился на краю небольшой деревушки. Он покалякал о том о сём с тремя местными мужиками, отдыхавшими на завалинке от праведных трудов, и посетовал на окаянность судьбы и брюхатость бабы. Мужики слушали с сочувствием. В конце концов Савелий устроил Марусю ночевать в избу к одному из них, а сам, ради сохранности добра, решил спать в телеге.
После наваристых щей и двух гигантских картофелин гостеприимный мужик поднёс Савелию кружку браги. В мире воцарилась полная благодать. Облизав бороду и поудобней устроившись в соломе, Савелий с минуту поглазел на звёзды, закрыл глаза и в то же мгновение погрузился в довольный крестьянский сон.
…Глубокой ночью, когда ни одно окошко не горело уже более в деревне и стояла густая тишина, наполненная лёгким шорохом листьев и приглушённым храпом, доносившимся сквозь сосновые стены изб, бесшумная чёрная фигура подкралась к телеге, в которой спал Савелий, и с изумительной сноровкой стала рыться в его вещах. Ни одним движением не выдавала она спешки или волнения, и только раз, когда Савелий причмокнул во сне губами, замерла на мгновение, чтобы затем продолжить свой обыск с удвоенным, но столь же хладнокровным проворством. Обнаружив и взяв, что было ей нужно, фигура неторопливо отошла от телеги и скрылась в безлунной августовской ночи…
Через несколько часов сырая утренняя прохлада разбудила Савелия. Поёжившись и постучав зубами, он выбрался из телеги и решил скрутить папироску, но не нашёл на себе ни кисета с махоркой, ни коробочки с газетными полосками, ни спичек. Кроме того, не хватало свёртка с рекомендательной бумагой и паспортами. Савелий склонился над телегой и принялся сонно шарить в соломе, думая, что искомое вывалилось туда. Постепенно он понял, что котулей на телеге вдвое меньше, чем было накануне. Он выпрямился, ещё несколько раз ощупал себя, трижды обошёл телегу, поползал по траве и, изрядно вымокнув в росе, встал на ноги рядом с жующей кобылой.
— Етить твою маковки, - грустно протянул Савелий. - Что ж ты, Глашка, ворА прохлопала?
Полчаса спустя телега, кобыла, злая Маруся и подавленный Савелий были окружены кольцом из галдящих мужиков, баб и ребятишек. Большинство мужиков имели в руках вилы и колья и с нетерпением ожидали консенсуса по вопросу о том, кого следует заподозрить, отыскать и назидательно изувечить.
Наступление консенсуса, однако, затягивалось. Около четверти собравшихся винили в краже проезжих цыган. Две бабы даже божились, что слышали и видели, как посреди ночи через деревню проследовал цыганский табор. Другая четверть полагала, что тут налицо рука Тришки Прынцева, который жил бобылём в землянке на краю леса и потому считался беглым каторжником. Двое особенно воинственных мужиков даже сбегали к землянке и, оторвав Тришку от доения козы, намяли ему бока - к счастью, без употребления вил или кольев. Ещё одна группа возлагала вину на старую Платониху, которая также жила одна на краю леса, имела пять кошек и огромную бородавку на носу и потому считалась ведьмой. Остальные приписывали злодеяние двенадцатилетнему сынишке Митьки Сопатого или самому Савелию. Последнюю теорию предложила Маруся. Она подозревала, что косная натура мужа влечёт его обратно в Волышово.
В конце концов мужики, вдоволь намахавшись вилами и кольями, поплевали под ноги и рассеялись. Через некоторое время разбежались ребятишки. Группами по трое разошлись бабы. К полудню у телеги остались Савелий, Маруся и сын Митьки Сопатого, который с утра ходил за грибами и только вернулся в деревню.
— Не, брешут это оне всё про меня, - сын Митьки Сопатого равнодушно сплюнул в истоптанную траву. - Ни в жисть я ничё ни в кОва не таскал. Это всё баба Праса, во-о-он с тОво двора. Я в йих нонче яблоков много потряс. Дак то рази кража? А кто в вас докУменты стащил, это и коту Платонихиному ясно. Окромя Федьки-расстриги с живого нихто так не стянет. Тока Федьку вам не найтить, он в лесу живёт. Его полиция с Пскову прошлый год цельный месяц ловили. Ловили-ловили, всю брагу в деревне выпили. А шиш поймали.
Савелий посмотрел на Марусю глазами побитого пса и стал запрягать.
— Хорошо хотя деньги ты мне на жопу вшила, — попытался он подмазаться к жене. - А то что ж, и деньгам бы каюк. А так-то, я ж на спины лежал, где уж ему, шельмецу…
Маруся смотрела в сторону и угрожающе молчала.
Савелий помог жене устроиться среди поредевших котулей, сел сам, тряхнул вожжами, причмокнул, цокнул, и Глашка потащила телегу обратно в Псков.
В глубине души Савелий, как Маруся и подозревала, ликовал. Затея с переселением в Петербург не переставала вызывать у него безотчётный ужас («Родители! Я в Питере - живу на хворосту…»). Его, конечно, не радовала предстоящая волокита с восстановлением украденных паспортов, а рот совершал рефлекторные жевательные движения - тосковал по самокрутке. Да и среди украденных вещей были лучшие Савельевы портки и три выходные рубашки, привезённые из Польши. Несмотря на это, всё в той же глубине души Савелий не испытывал к Федьке-расстриге ничего, кроме благодарности.
Маруся не имела настроения петь. Около часа единственными звуками в ушах Савелия были скрипенье тележных колёс, глухая поступь и фырканье кобылы, а также урчание в его животе, оставшемся без завтрака. По истечении часа Глашка остановилась пощипать травки. Савелий обернулся к жене.
— А что, Марусь, давай хлебцу перехватим, что ль, - осторожно предложил он.
— Тсс! — сказала Маруся. - Гляди.
Далеко позади по дороге двигалось облако пыли, внутри которого мелькала бегущая человеческая фигура. Фигура издавала непрерывные крики. Содержание криков, ввиду значительного расстояния, сначала не было ясным, но по мере приближения облака всё отчётливей стали звучать слова «стойте», «умоляю» и «во имя Господа нашего Исуса Христа». Через пару минут облако поравнялось с телегой. Из него вывалился невероятно заросший грязными седеющими волосами мужик в столь же грязной крестьянской рубахе навыпуск и уж вовсе неописуемо грязных и безбожно латаных портках. В левой руке он держал два мешка, сразу показавшиеся Савелию знакомыми, а в правой - ещё более знакомый Савелию свёрток.
— Во имя Господа нашего Исуса Христа… — просипел мужик, рухнув на колени и немного переведя дух. - Во имя… Во имя…
Он закашлялся, ещё отдышался, упёрся лбом в дорожную пыль у переднего колеса телеги и начал дословно оглашать окрестности церковнославянской версией 28 главы Псалтыря, допуская лишь незначительные отступления от канонического текста.
Савелий слез с телеги и озадаченно склонился над мужиком.
— Ты чё, брат, умом повредился?
Мужик оторвал лоб от дороги, выпустил из левой руки мешки и обеими руками протянул Савелию свёрток с документами.
— Помилуй, Сыне Человеческий, прости мя, тать мерзкую, прости и помилуй!
Руки мужика дрожали. По грязным щекам сползали слёзы, оставляя после себя бурые дорожки и теряясь в бороде.
Савелий взял свёрток и бережно развернул его. И паспорта, и рекомендательная бумага были на месте. Савелий снова завернул их, сунул свёрток за пазуху и хотел было поднять мешки с дороги на телегу, но мужик, угадав его намерение, вскочил на ноги и сделал это прежде него.
— Не гневись, Сыне Человеческий! Рыбину, рыбину я поел и хлебца ломоть, не ведал бо, на чью кладь покусился, да и взалкал, больно уж жрать хотелося, прости мя и помилуй! - на последних словах мужик снова рухнул на колени и упёрся челом в пыль в десяти сантиметрах от сапога Савелия.
— Точно повредился, — заметила с телеги Маруся.
Савелий почесал затылок.
— А махорку куда девал? - спросил он.
— Ма… Что? - приподнял голову мужик.
— Махорку мою, говорю, куда девал? В кисете?
Лицо мужика приобрело выражение крайнего отчаяния.
— Так то… Так то, должно быть, обронил я её, по ночи ещё… — залепетал он. - Обронил, как есть обронил, Господи! Прости мя и помилуй, не ведал бо, что творил…
При этих словах он особенно сильно ударил лбом о дорогу и закашлялся.
— Ну Бог с тобой, - с некоторой досадой сказал Савелий, в душе готовясь разворачивать Глашку обратно в Петербург. - Повыдергать бы тебе, конечно, руки твои, чтоб неповадно йим было добро-то чужо брать… Да что уж тут теперь… Не совсем ты, видать, ишшо пропащий, ишь как совесть-то разбирает… Ступай себе.
Мужик перестал кашлять и посмотрел на Савелия умоляющими глазами.
— Помилуй, Господи, меня, тать окаянную…
— Да что ж ты, дурак, имя-то Господне всё треплешь, — не выдержав, скривился Савелий. - Иди, вон, в церкву, покайся батюшке да замаливай свои пакости. Ступай, ступай, пока я добрый.
И Савелий стал разворачивать Глашку.
— Не отсылай меня от себя, Господи! - захныкал мужик, следуя за Савелием на четвереньках. - Знаю, что недостоин я милости твоей! Верною службою, службою хочу искупить грехи свои тяжкие! Знаю, что и мытаря прощал ты, и блудницу прощал, и разбойника! Знаю, что хуже я разбойника, много хуже! Постриг принял, да слаб был в вере, и попутал меня враг рода человеческого… Польстился я на утехи греховные, снюхался с Авдотьей-б***ю, бежал из обители и погряз во блуде и мерзости…
— Прав был, выходит, мальчонка, — сказала внимательно слушавшая Маруся. - Ты, значит, Федька-расстрига?
— Он, он самый, матушка! - мужик развернулся макушкой к Марусе и заголосил ещё громче. - Диомидом был в постриге, да осквернил святое имя, теперь обратно Федька. Три года живу в лесах, по деревням шастаю, ворую у добрых людей. Вот и вчерась сижу в кустах, думаю, проезжие в Питер, стало быть, провиант да деньжата есть… — мужик снова развернулся к Савелию. - Как ночь настала, подкрался к тебе, Господи, взял, что мог снесть, и ну к себе в лес… А там, слава Богу, развернул бумажку и вижу, кто ты есть, и понял сразу: это мне Господь посылает спасение, побегу к нему, авось сжалится и оставит при себе, как Матвея-мытаря, и сделает ловцом человеков…
Савелий кое-как справился с отвисшей челюстью, извлёк из-за пазухи свёрток с документами и развернул рекомендательную бумагу. С минуту поморщив лоб, он протянул бумагу Марусе и попросил прочитать вслух.
— «Сим удостоверяется… что отставной артиллерии млэээ унтер-офицер… уроженец села Волышова Порховского уезду Псковской губ… Савелий Кутузов… состоя будучи… на должности Спасителя У», — с трудом разбирая артистический почерк вице-председателя, прочитала Маруся.
— Спаситель Устин! - завопил мужик. - Господи! Как принял я постриг, было мне раз ночью от тебя видение: будто прихожу я к заутрене, а храм пустой, ни души в нём нет. Только мальчишка, что при монастырской конюшне был, машет всё руками и кричит: «Иди! Иди! Там братьЯм Спаситель за огородом является!» И вот, побежал я, как шальной, к огороду, а там братия вся собралася, и глядят все на калитку заднюю, за водой скрозь ту калитку на озеро ходили. И вот, отворяется та калитка, и заходит некто, с виду мужик. Все братьЯ на колени попадали. Один я стою в гордыне своей бесовской, и насмехаюсь. «Что же, это, — говорю, — за спаситель такой - в картузе да сапожищах? У нас в Прибужи таких спасителей, — говорю, — в кажной избе по трое». Смотрю на него и спрашиваю: «Как тебя, мужик, звать?» А он поглядел на меня своими очами, так что у меня ноги враз подкосились. Говорит: «Не пришло ныне моё время, а егда придёт, Устин будут меня звать». Тут и проснулся я, и забыл совсем про сон этот… А сёдни как глянул в бумагу-то, а там и Христос, и матерь его нарисованы, и написано про тебя всё как есть… Господи! Прости мя и наставь!
Савелий расхохотался.
— Ну и дурень же ты, Фёдор, — сказал он. - По лесам бы поменьше блыкался, авось мозги-то на место бы и встали. Спаситель Устин! Привидится же людЯм чёрти что. Спаситель утопающих я, а не…
— Ловец человеков! - истово и просветлённо кивая, завопил Фёдор.
Он попытался облобызать сапог Савелия.
— Да чтоб тя!… - разозлился Савелий и, отставив ногу, хотел уже дать ему по зубам, но был остановлен Марусиным окриком.
— Оставь его, — сказала Маруся. - Пусть с нами будет. Пойдёшь за телегой, — добавила она, обращаясь к Фёдору.
— Спасибо, матушка! - разрыдался Фёдор.
Не меньше двух часов, шепча благодарности и молитвы, он полз за телегой на четвереньках. Задумчивая Глашкина поступь вполне позволяла это.
07:56 11.07.17
Судьба моя – металлургический завод
Петровчанин Савелий Прохорович Парфёнов – из когорты тех самых петровск-забайкальских металлургов, с юных лет проторивших дорожку от дома до заводской проходной. Более тридцати пяти лет, до самых седин, он трудился в прокатном цехе. Достойно, когда подошло время, ушёл на заслуженный отдых с преуспевающего предприятия. При этом нимало не задумываясь, что наступят времена, когда о заводе будут вспоминать по-разному. Он – как об одной из лучших страниц своей жизни, другие, более молодые, пережившие развал родного предприятия, – как о страшном сне. От сохи – в "горячий" цехМог ли подумать когда-то деревенский парнишка Савка Парфёнов, рождённый в далёком 1930-м в многодетной семье Прохора и Натальи Парфёновых, что судьба выпишет свои непредсказуемые повороты и круто изменит устоявшуюся, хоть и нелёгкую, но привычную крестьянскую жизнь колхоза "Красный партизан" и его людей? Что он навсегда покинет родной Харауз, станет городским человеком, пролетарием. Савка рос третьим ребёнком в семье, где было четыре дочери и два сына. С детских лет шустрый, неугомонный, трудолюбивый, он рано стал опорой и надеждой семьи. Рано осознал взросление. Особенно когда в 1939-м на Халхин-Голе погиб глава семьи – отец Прохор Власьевич, председатель сельсовета. Хватили мурцовки и в страшные 40-е: война, как языком, вылизала мужское население, остались женщины да дети. Парфёновы жили голодно: одна коровёнка да десяток кур на подворье, как тут прокормить ораву ребятишек. Наталья билась на колхозных работах. В уборочную страду была поварихой на полевом стане. Знатную стряпуху Савельевну просили печь булки и хлеб даже жители соседней Бурятии, а её дети собирали в поле колоски... Савва со взрослыми женщинами ходил в лес по грибы и ягоды, зимой с младшим братишкой Вовкой готовили, пилили, складывали в поленницу дрова. Но наступила долгожданная весна 1945-го. Вернувшийся с фронта односельчанин Кондрат Фёдоров стал отчимом детям Натальи. А осенью семья в поисках лучшей доли поселилась в одном из отдалённых районов Петровска под названием "Железный мост", навсегда покинув родной Харауз. 15-летний Савва работал в бригаде путейцев мастера Жукова. Лет мало, а трудился по шесть часов, невеликую зарплату нёс в общий семейный котёл. В 1946-м парнишку приняли в школу РУ №3, в районе старого квартала (так тогда назывался один из уголков Петровска). Все группы к тому времени уже укомплектовали, шёл набор учащихся для прокатного цеха, который открыли перед самой войной. Так решилась судьба Савелия Парфёнова. В РУ учились и городские, и деревенские парни, кто постарше, кто помоложе. "Если честно, – признался в нашей беседе Савелий Прохорович, – пошёл в ремесленное потому, что там… кормили ". Была в училище своя столовая: не жировали, но суп, тушёная капуста, каши были подспорьем изголодавшимся подросткам, детям войны. Хлеб выдавали всё ещё по карточкам. Учащемуся РУ полагалось по 200 граммов хлеба на завтрак и ужин и по 300 граммов – на обед. Савва умудрялся припрятать горбушку этого тяжёлого, чёрного, казавшегося слаще мёда, хлеба и принести домой самой маленькой, грудной ещё сестрёнке. Бывало, и обижали городские мальчишки, и драгоценный хлебушко отбирали. Размазывая по щекам слёзы обиды, летел Савка домой, знал: сегодня малышка прокричит от голода ночь напролёт. Дисциплина в училище была почти военной. В прокатный цех и обратно ходили строем. Помнит мальчишка, как поразили его тогда своей мощью завод, прокатный цех. Помнит свои первые шаги в профессию, когда на прессе впервые резал горячий металл. Сообразительный от природы, он не боялся браться за новое дело, хорошо учился, осваивал рабочую профессию. Опытные заводчане отметили в этом парнишке решительность, физическую выносливость, наблюдательность, глаз-алмаз и внимательность. Не случайно после окончания РУ он был назначен подручным вальцовщика 325-го стана. Помнит директора завода Ивана Яковлевича Полторана, начальника цеха – строгого, но справедливого Иосифа Давыдовича Голубева, он по-отечески относился к молодым рабочим, безусым ещё пацанам. Вскоре Савелию дали комнату в двухэтажном бараке на Соцгороде, где вместе с ним жили старшие сёстры Таня и Валя, работницы огнеупорного цеха. А спустя время в эту комнатёнку с "Железного моста" перебрались и все домочадцы. Отчим тоже устроился на завод, в отдел капитального строительства. Появилась семейная династия. Жили в тесноте, да не в обиде. Как одному их лучших рабочих, администрация завода оформила Савелию Парфёнову бронь. А парень так мечтал послужить в Морфлоте! Постепенно жизнь налаживалась. Работа была не из лёгких, всё-таки "горячий" цех. Однако появился стабильный заработок, улучшились жилищные условия. Савелию шёл 23-й год, а он всё ещё ходил в женихах... Мы жили по соседству…
За невестами, конечно, дело не стояло. Вон сколько на заводе работало девчат. Но он ждал свою, одну-единственную. Приглянулась Галя Ситникова – девушка из соседнего дома, стройная, томноокая, очень строгая (никаких глупостей!), она работала швеёй, а в свободное время на дому шила одежду на заказ, чтобы поддержать семью, которая в годы Великой Отечественной на фронте потеряла кормильца-отца. Сашка, так звали Савелия на заводе, встречал свою Галинушку в кино, на танцах, где она с подружками красиво танцевала фокстрот, танго, легко вальсировала. А он чувствовал себя "медведем": не умел так, как она, не до танцев было рано повзрослевшему деревенскому парню, хоть и жил теперь в городе и носил гордое звание "рабочий". Два года молодые встречались. Его ровесники были уже семейные, нарожали детей. Галин брат сказал как-то: Всё, хватит в женихах ходить, приходи сватать". Этот осенний день 1953-го Ситниковы и Парфёновы запомнили на всю жизнь. Собралось из обеих семей около тридцати родственников. Получилось не просто сватовство, а целая свадьба. В декабре Савелий и Галина тихо, без пафоса, зарегистрировались в отделе ЗАГС при милиции. Не было у невест далёких 50-х богатых нарядов, и не украшала голову белая фата, но молодая мастерица сшила себе красивое шифоновое платьице по фигуре нежно-салатового цвета и была краше всех. Вскоре молодые получили свою "однюшку" в доме на Соцгороде, тут родилась их доченька Тоня, так нарёк девчушку счастливый папа. Прошёл месяц, и Галина вышла на работу, в ателье. С кем оставить малышку? Случалось, Савелий в двери со смены, а Галина – в эти же двери – на работу. Спать молодому папке хочется, смена была тяжёлой, а с ребёнком разве заснёшь. Часто водиться помогала сестрёнка Дуся. Это уж младшенькой дочери Парфёновых – Иринке, родившейся спустя пять лет в просторной квартире, полученной от завода, – досталась, можно сказать, райская жизнь. С мамой дома целых три года! Глава семьи так решил: заводского заработка хватает, чего детишек мучить и самим маяться. Родители-трудяги, они и дочек с малых лет приучили к хозяйственности, аккуратности. Всегда держали подсобное хозяйство, несмотря на то, что жили "на этаже". Хорошая кладовка, добротный сарайчик, где хрюкали поросята, кудахтали курочки. Старшая Антонина помнит, как, придя из школы, кормила поросят, как всей семьёй разгружали уголь. Детям – маленькие ведёрки, главное – участие каждого. В доме всегда идеальная чистота. Первым транспортом в семье стал велосипед. На раму папа приделал маленькое сиденье, и по выходным вместе с дочкой отправлялись на рынок в город. Покупали молоко, овощи – экологически чистые продукты. Потом уж стали выезжать на природу на собственном мотоцикле "Иж-Юпитер", у которого, спустя время, появилась коляска. Вот только династия заводчан у Парфёновых не сложилась. Старшая дочь после окончания школы махнула в педагогический институт, она – химик-биолог. Младшая стала медсестрой, позже получила профессию психолога. В положенное время Парфёновы приняли, как родных, зятьёв-тёзок Александров. Старший рано, совсем молодым, покинул бренный мир по болезни. А младший зять Александр – всё равно, что сын родной. Всегда рядом и готов прийти на помощь. В трудные времена было у Парфёновых две дачи. Так что семьи дочерей, внуки всегда могли и потрудиться, и отдохнуть за городом на природе. Держали на даче коз, баранов, поросят, выращивали овощи. На пенсии ветерану труда металлургического завода Савелию Парфёнову дома не сиделось, не смущали такие скромные должности, как вахтёр, бойлерист, сторож. Так к 35 годам "горячего" заводского стажа прибавился ещё десяток лет. Жизнь, как песня
Беседуя с Савелием Прохоровичем, металлургом, преданным родному предприятию, невольно вспоминала фильм "Весна на Заречной улице" и слова из песни: "…Мне ни на что не променять ту заводскую проходную, что в люди вывела меня". И не случайно. Оказалось – любимая песня не только героя моего рассказа, но и металлургов других поколений. Как многое из неё схоже с жизнью простого скромного человека, заработавшего в "горячем" цехе три с половиной "горячих" стажа. (Вот откуда они, нынешние хвори!) Награды, удостоверения, грамоты – всё бережно, но скромно хранится в семейном архиве. 14 лет он без своей любимой Галины. Не дожив совсем немного до золотой свадьбы, она умерла от тяжёлой болезни в 2003 году. Сегодня рядом заботливые дочери, зять, внуки и правнуки. Один из них – Савва, Савка, Савелий, как любимый прадедушка. Спрашиваю, встречается ли Савелий Прохорович со своими бывшими товарищами по работе, забывая, что в декабре ветерану исполнится 87! Дочери подсказывают: перезваниваются, поздравляют с праздниками, хотя в живых уже почти никого не осталось. Как и многие истинные заводчане, он тяжело пережил развал завода и до сих пор не может понять – как такое могло случиться? Многие металлургические предприятия в стране сохранили, а петровское не смогли, а ведь оно было надеждой, опорой, стабильностью. Завод растил специалистов, выдавал продукцию, кормил, был судьбой поколений и гордостью города и страны. Болит душа за внуков и молодёжь – какая им достанется доля?! Не хочется, чтобы город опустел. Побывав не так давно в родном Хараузе, тоже увёз впечатления не из приятных. Деревня тихо умирает. Почему раньше 80 рублей аванса и 160 зарплаты казались целым богатством, на которое можно было жить семьёй целый месяц? А теперь работать на тяжёлом производстве за буханку хлеба или "выбивать" свои "кровные" через суд? Многое тревожит ветерана, прожившего, как в той песне про заводскую проходную, непростую, но справедливую жизнь. Куда же подевались эти самые справедливость, стабильность и уверенность в завтрашнем дне? Грустные мысли тревожат всё чаще. Татьяна ГОРОДЕЦКАЯ, фото автора, Леонида Михайлова, из семейного альбома Парфёновых
58-летний Леонид Парфенов отмечает пополнение в семье. Вечером пятого февраля сын тележурналиста Иван впервые стал отцом. Его супруга Мария родила очаровательного мальчика, которого назвали Михаилом. Счастливое событие для Парфенова и его близких произошло в одном из столичных перинатальных центров.
Радостную новость сообщила жена Парфенова Елена Чекалова. Ресторатор и тележурналист опубликовала совместную фотографию с мужем в Инстаграме. В подписи к снимку Елена поделилась, что стала бабушкой. Чекалова и Парфенов не могут нарадоваться появлению внука.
«Бабушка рядышком с дедушкой. Да, сегодня в нашей семье счастье: родился Михаил Иванович Парфенов-Бройтман. Вес 3940 гр, рост – 54 см. Я – бабуля! Многие мои подруги этого звания не то, чтобы стесняются, но предпочитают, чтобы внуки их называли их «Маша» или «Лена». А вот мы с Леней просто бабушка и дедушка», – рассказала жена известного телеведущего.

На своей странице в Фейсбуке Елена Чекалова поделилась подробностями появления малыша на свет и поздравила сына и невестку с радостным событием.
«Здорово, что теперь мужу разрешают в течение родов быть рядом с женой – в наше время это было запрещено. Маша все время могла держаться за Ваньку, и он сам перерезал пуповину. По-моему, это так важно, чтобы муж тоже рожал, а рядом с роженицей был любимый, а не только чужие тетки и дядьки. Особенно вспоминая, как рожала я сама и как на меня орали матом медсестры. Конечно, все можно вынести ради счастья стать мамочкой… Но лучше иначе», – написала супруга Леонида Парфенова.

Пользователи социальных сетей поздравили телеведущего с пополнением в семье и оставили ему большое количество теплых пожеланий. «Новый этап в жизни!», «Растите здоровыми и счастливыми», «Всех благ ребенку», «Ура», «Это большая радость», «Вы замечательные», «У вас героическая невестка – родить такого богатыря», «Теперь осталось дождаться правнуков», «Какая вы прекрасная пара», «Нет ничего прекраснее, чем слово «бабушка», произнесенное малышом», «Ждем в ленте полезное и вкусное детское меню», – комментировали подписчики Елены.
О том, что супруга Ивана Парфенова ожидает ребенка, стало известно в ноябре прошлого года. «Да, совсем недавно это было: свадьба Вани и Маши и выход книжки «Первый год замужем». А теперь ждем пополнения семьи – вот что значит, хорошо питаться», – писала тогда Елена Чекалова в социальных сетях.
Сын известного телеведущего узаконил отношения с Марией Бройтман, дочерью инвестиционного банкира, в 2015 году. Свадьба прошла в Москве по еврейским обычаям. Молодожены получили множество приятных подарков от родных и близких. Известно, что Мария и Иван заключили брачный договор – ктубу.

«Доктор Питер» рассказывал, как 1,5-годовалого Савелия — последнего пациента Детского госпитального центра . На следующий день «Скорая помощь» доставила мальчика в реанимацию НИИ детских инфекций с осложнениями ротовирусной инфекции - реактивным поражением печени и сердца.
Судебно-медицинская экспертиза установила, что помощь Савелию была оказана с дефектами — сначала на этапе диагностики (при поступлении ему не сделали часть лабораторных исследований) и, как следствие, ему проводилась «неадекватная (по количеству и составу) инфузионная терапия, что свидетельствует о неверно выбранной тактике лечения».
«Выявленные дефекты диагностики и лечения привели к ухудшению состояния ребенка», сделала вывод судебно-медицинская экспертиза на основании данных, полученных из выписки из истории болезни ДКЦ. Медицинскую карту ни Следственному комитету, ни суду получить так и не удалось.
«Паны дерутся»
Архив клиники исчез. Ее владелец Анатолий Аносенко и генеральный директор Виталий Парфенов, по распоряжению которого и был «выписан» Савелий, в исчезновении архива обвиняют друг друга. В поисках документации Следственному комитету Петербурга пришлось обратиться к коллегам из Ставрополья - там нашли бизнесмена Анатолия Аносенко, владельца клиники. Он рассказал: «Осуществление деятельности прекращено 23.06.2016 в связи с тем, что по моему мнению, в данном случае имел место рейдерский захват со стороны генерального директора ДГЦ Парфенова В.Г. и его товарища Теплякова А.Г., которые фактически парализовали деятельность центра, довели его до состояния банкротства, вывезли все дорогостоящее оборудование».
Аносенко утверждает, что по этому поводу обращался в следственное управление по Центральному району, в прокуратуру Центрального района, однако ответов на обращения не получил. «Где именно находится архив ДГЦ мне неизвестно, так как он был вывезен из здания в неизвестном мне направлении. Могу точно сказать, что финансовой документации нет, но какие-то медицинские документы остались, но вот какие, я точно указать не могу… Местнонахождение документации может указать бывший генеральный директор Парфенов».
Виталия Парфенова сотрудники Следственного комитета нашли в Петербурге, им он пояснил: «После окончания трудовых отношений с 1 июля 2016 года судьба медицинских документов в здании, в котором размещалось ООО «ДГЦ» мне неизвестна, поскольку доступ к архиву и к зданию мною не контролировался. С 1.07.2016 в помещение архива я не входил, и кто имел доступ к помещению, мне неизвестно, доступ к зданию и помещению был только у собственника.»
Представлявшая интересы двухлетнего Савелия в суде Ольга Зиновьева, адвокат юридической компании «Онегин-групп» попыталась вникнуть в разногласия между генеральным директором и собственником клиники. Она считает, что это история о том, как коммерческие интересы медицинского бизнеса ставят под угрозу жизнь и здоровье детей.
Уникальная дорогая игрушка
«Детский госпитальный центр» - первый и пока последний в Петербурге частный детский инфекционный стационар. Он открылся в Центральном районе на улице Черняховского (официальный адрес Лиговский, 60-62/Я) в 2014 году, когда в период эпидемии гриппа в детские городские больницы выстраивалась очередь из автомобилей «Скорой помощи», а инфекционные отделения были переполнены. Казалось бы, вид медицинской деятельности для коммерческой клиники выбран беспроигрышный — детских частных стационаров в городе нет, существует лишь несколько небольших отделений при «взрослых» клиниках. А уже об инфекционном стационаре родителям, готовым оплатить лечение ребенка в комфортных условиях, и мечтать не приходилось. Воспрянули и страховые компании — появилась дополнительная услуга в программах детского медицинского добровольного страхования.
Это был уникальный проект, альтернатива государственной системе здравоохранения, особенно в период эпидемий, - сказал «Доктору Питеру» бывший гендиректор ДГЦ Виталий Парфенов. - И с экономической точки зрения он был интересен. Его закрытие — огромная ошибка, но решение принял собственник, комментировать его действия я не буду.
Несмотря на то, что цены на медицинские услуги в ДГЦ были на уровне клиник премиум-класса — то есть на уровне цен клиники «Медем», практически с момента открытия он все два года существовал «на грани». В марте 2015 года он закрылся первый раз. Правда, тогда ни один ребенок, который лечился в стационаре, не оказался на улице — всех детей перевели в государственные клиники города. Как рассказали «Доктору Питеру» врачи, сотрудники просто уволились, и центр не работал полтора месяца, до тех пор пока не пришел новый главный врач Михаил Майзельс и не собрал команду. Он тоже продержался всего год и ушел. Оставшиеся доктора после закрытия клиники не получили зарплату за два месяца.
Почему первая частная инфекционная клиника — последняя
Коллеги Парфенова соглашаются с ним и говорят о том, что проект, действительно, был хорошим, но такая дорогая высокотехнологичная игрушка никогда не смогла бы стать рентабельной. Известный педиатр одной из частных клиник Петербурга, не захотевший себя называть, попробовал объяснить «Доктору Питеру», почему бизнес на детях с инфекционными заболеваниями чреват банкротством и почему до сих пор ни в одном городе России детского инфекционного стационара нет, не было и не может быть:
Клиника позиционировалась, как коммерческая, созданная по образу и подобию государственной. Но соответствовать нормативам, которые предъявляются к такому учреждению практически нереально. Детские инфекционные заболевания протекают непредсказуемо, и если уж ребенку требуется стационарное лечение, то оно практически всегда интенсивное. Поэтому необходимо достаточное количество койко-мест в реанимации, достаточное число медицинских работников. А в ДКЦ всегда не хватало среднего персонала, врачи работали, в основном по совместительству, а с такими пациентами в больнице надо жить, а не приходить на время дежурства два раза в неделю. В итоге врачи и медсестры постоянно менялись — уходили из-за того, что не устраивает заработная плата, не было разумной организации лечебного процесса, значит страдала медицина, а достойные врачи не хотели нести ответственность за то, с чем не согласны.
Последние месяцы перед закрытием клиника экономила на всем, в том числе на лабораторных исследованиях. И попробуй сейчас пойми, почему не были сделаны лабораторные исследования уровня гематокрита и концентрации калия и магния в плазме крови последнему 1,5-годовалому пациенту — из-за некомпетентности врачей или потому что и сегодня на сайте «За честный бизнес» ДГЦ значится в должниках у лабораторий «Инвитро», «Хеликс», продавцов лекарств и медицинских изделий «Медбаза» и «ЭКЛИФ». Наверняка, это не единственные кредиторы центра, в налоговой службе он числится в списке действующих компаний.
Теперь владельцы ДГЦ — в должниках и у родителей Савелия. Как сообщила адвокат Ольга Зиновьева, по решению суда в пользу ребёнка исковые требования судом удовлетворены полностью: взыскано в качестве компенсации морального вреда 300 000 рублей, штраф в размере 150 000 рублей, в пользу мамы взыскано 100 000 рублей, штраф в размере 50 000 рублей. В общей сложности клиника должна выплатить 600 000 рублей.
Ирина Донцова
Доктор Питер