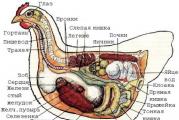Ольга и татьяна романовы. Великая княжна ольга николаевна. Православный вестник. PDF
«В моем воображении я снова вижу их сидящими напротив меня, как и в то далекое время. Наискось от меня сидит Великая Княжна Ольга Николаевна. К ней меня влечет неодолимая сила – сила ее обаяния. Я почти не могу работать, когда она сидит так близко от меня, и все смотрю на ее обворожительное личико. Я только тогда смущенно опускаю глаза на работу, когда мой взгляд встречается с ее умными, добрыми и ласковыми глазами, я смущаюсь и теряюсь, когда она приветливо со мной заговаривает…
Ее нельзя назвать красивой, но все ее существо дышит такою женственностью, такою юностью, что она кажется более чем красивой. Чем больше глядишь на нее, тем миловиднее и прелестнее становится ее лицо. Оно озарено внутренним светом, оно становится прекрасным от каждой светлой улыбки, от ее манеры смеяться, закинув головку назад, так что виден весь ровный жемчужный ряд белоснежных зубов.
Умело и ловко спорится работа в ее необыкновенно красивых и нежных руках. Вся она, хрупкая и нежная, как-то особенно заботливо и с любовью склоняется над солдатской рубашкой, которую шьет… Невольно вспоминаются слова, сказанные мне одним из ее учителей: «У Ольги Николаевны хрустальная душа»
Из воспоминаний С.Я. Офросимовой
Первая из четырех дочерей Святого Государя Ольга Николаевна родилась 3 ноября 1895 г., спустя год после свадьбы Николая II и Александры Федоровны. С самого детства ее отличали стремление к самостоятельности, сильная воля, честность и прямота. Окружающие отмечали ее живой ум, искренность («Ни капли лукавства!» – пишет Пьер Жильяр) и покоряющее всех истинно девичье обаяние. Великая Княжна была очень рассудительна, остроумна, обладала открытой, непосредственной натурой.
Преподаватель французского языка и наставник Цесаревича Пьер Жильяр записал свои впечатления от первой встречи со старшей дочерью Императора: «…Меня провели во второй этаж, в маленькую комнату с очень скромной обстановкой в английском вкусе. Дверь отворилась, и вошла Императрица, держа за руку двух дочерей, Ольгу и Татьяну… Старшая из Великих Княжон, Ольга, девочка десяти лет, очень белокурая, с глазками, полными лукавого огонька, с приподнятым слегка носиком, рассматривала меня с выражением, в котором, казалось, было желание с первой же минуты отыскать слабое место, – но от этого ребенка веяло чистотой и правдивостью, которые сразу привлекали к нему симпатии».
Когда Великая Княжна подросла, она превратилась в обаятельную, миловидную девушку славянского типа, чуть выше среднего роста, со свежим лицом, пышными светло-русыми волосами и смеющимися голубыми глазами. Лицом она больше походила на отца. «Ольга Николаевна улыбалась так же хорошо, как Государь», – вспоминал начальник императорской дворцовой охраны А. И. Спиридович. Всякий, кто видел ее, по словам близкого друга семьи Юлии Ден, тотчас влюблялся. «На окружающих она производила впечатление своей ласковостью, чарующим милым обращением со всеми. Она со всеми держала себя ровно, спокойно и поразительно просто и естественно», – отмечал генерал М. К. Дитерихс.
С самого детства Ольге Николаевне прививались важные нравственные нормы, о чем свидетельствует письмо Государыни Александры Федоровны своей тринадцатилетней дочери от 1 января 1909 г.: «Моя милая маленькая Ольга! Пусть Новый 1909 год принесет тебе много счастья и благословений. Постарайся быть примерной – хорошей и послушной девочкой. Ты старшая и должна показывать другим пример. Научись радовать других, думай о себе в последнюю очередь. Будь ласковой и доброй и никогда не бывай резкой или грубой. Разговаривай и веди себя как настоящая леди. Будь терпелива и вежлива, старайся во всем помогать сестрам. Если ты видишь, что кому-то грустно, старайся его утешить и показать свою ясную сияющую улыбку. Ты так хорошо умеешь быть ласковой и милой со мной, будь такой же и с сестрами. Покажи свое любящее сердце.
А главное, научись любить Бога всеми силами своей души, и Он всегда будет с тобой. Молись Ему от всего сердца. Помни, Он видит и слышит все. Он нежно любит своих детей, но они должны научиться исполнять Его волю».
Воспитанию и образованию своих дочерей Государыня посвящала много времени: сама составляла программы занятий, подбирала учителей, лично обучала детей манерам, языкам, рукоделию, беседовала на духовные темы. По мнению учителей, Ольга была самой способной и талантливой из сестер, обладала философским умом, ее суждения отличались большой глубиной. Она много читала вне уроков, увлекалась историей, любила поэзию и литературу, хорошо рисовала, прекрасно ездила верхом и танцевала.
Кроме того, старшая Великая Княжна была очень музыкальна: по словам фрейлины Анны Вырубовой, Ольга обладала абсолютным слухом, могла сыграть на слух любую услышанную мелодию, переложить сложные музыкальные пьесы.
Воспитываемая вместе с сестрами в строгом патриархальном духе и глубокой религиозности, Ольга довольствовалась в детстве самой простой обстановкой и незатейливыми развлечениями.
Кроме сестер, с которыми – особенно с Татьяной – ее связывала нежная дружба, у Ольги не было подруг-сверстниц. Кроме свиты с царскими детьми общались только ближайшие родственники.
И все же детям, по их же словам, было весело проводить время вместе, особенно когда они бывали в Ливадии или на яхте «Штандарт». «Думаю с полной откровенностью, что Княжнам и в голову не приходило, что можно жить иначе, – полагал придворный чиновник генерал-лейтенант А.А. Мосолов. – Они были нетребовательны. Одно кинопредставление по субботам давало пищу разговорам на неделю».
Ежегодно Императрица организовывала благотворительные лотереи-аллегри и благотворительные базары в пользу туберкулезных больных, для которых Ольга Николаевна вместе с сестрами вышивала, шила, вязала, рисовала открытки, а в день базара сама продавала их публике, вследствие чего, по выражению П.Жильяра, «толпа была невероятная и продажа шла с исключительной быстротой».
«Кроме красоты в мире много печали», – учила дочерей Государыня, посылая их навещать неизлечимо больных туберкулезом. Впоследствии на деньги, собранные на благотворительных мероприятиях, и частично на личные средства Государыни в Массандре был построен санаторий для раненых офицеров.
Всех царских детей отличала природная веселость. В детстве и юности Великая Княжна Ольга, как и ее сестры, была очень веселой и шаловливой девочкой. «Когда она училась, – вспоминала фрейлина Софи Буксгевден, – бедным учителям приходилось испытывать на себе множество ее всевозможных штучек, которые она изобретала, чтобы подшутить над ними.
Да и повзрослев, она не оставляла случая позабавиться». «По вечерам мы с Ольгой и иногда с Марией летаем на велосипедах по нашим комнатам полным ходом. Ольга меня ловит или я ее, очень приятно. Падаем иногда, но пока живы», – писала отцу Великая Княжна Анастасия. «Ольга шалила, сидя на маленьком столике, пока преблагополучно не сломала его», – пересказывала события того же дня Александра Федоровна.
Больше всего на свете, по выражению учителя английского языка Сиднея Гиббса, Ольга любила своего отца, Государя Николая, на которого была похожа больше других детей. Ее так и называли – «дочь Отца». М.К. Дитерихс писал: «На всех окружающих производило впечатление, что она унаследовала больше черт отца, особенно в мягкости характера и простоты отношения к людям». «Их отношения с Государем были прелестны», – вспоминает П. Жильяр. Государь для дочери был одновременно царем, отцом и товарищем; это чувство «переходило от религиозного поклонения до полной доверчивости и самой сердечной дружбы».
Иногда Государь брал старших дочерей в театр. В одно из таких посещений Киевского городского театра 1 сентября 1911 г. произошло покушение на премьер-министра П.А. Столыпина, в результате которого он был смертельно ранен. «Ольга и Татьяна были со мною тогда, – писал Государь своей матери Марии Федоровне 10 сентября 1911 г., – и мы только что вышли из ложи во время второго антракта, так как в театре было очень жарко.

В это время мы услышали два звука, похожие на звук падающего предмета... Прямо против меня в партере стоял Столыпин. Он медленно повернулся лицом ко мне и благословил воздух левой рукой. Тут только я заметил, что он побледнел и у него на кителе и на правой руке кровь. Он тихо сел в кресло и начал расстегивать китель. Ольга и Татьяна вошли за мною в ложу и увидели все, что произошло…» Несмотря на стремление родителей оградить своих детей от жестокости жизни, создав им уютный и замкнутый мир, Великие Княжны и Наследник рано начали познавать суровость реальности.
Будучи старшей из царских дочерей, Великая Княжна Ольга успела побывать на нескольких балах. «В эту осень Ольге Николаевне исполнилось шестнадцать лет, – вспоминала Анна Вырубова, – срок совершеннолетия для Великих Княжон. Она получила от родителей разные бриллиантовые вещи и колье. Все Великие Княжны в шестнадцать лет получали жемчужные и бриллиантовые ожерелья, но Государыня не хотела, чтобы Министерство Двора тратило столько денег сразу на их покупку Великим Княжнам, и придумала так, что два раза в год, в дни рождения и именин, получали по одному бриллианту и по одной жемчужине. Таким образом, у Великой Княжны Ольги образовалось два колье по тридцать два камня, собранных для нее с малого детства.
Вечером был бал, один из самых красивых балов при Дворе. Танцевали внизу в большой столовой. В огромные стеклянные двери, открытые настежь, смотрела южная благоухающая ночь. Приглашены были все Великие Князья с их семьями, офицеры местного гарнизона и знакомые, проживавшие в Ялте.
Великая Княжна Ольга Николаевна, первый раз в длинном платье из мягкой розовой материи, с белокурыми волосами, красиво причесанная, веселая и свежая, как цветок лилии, была центром всеобщего внимания. Она была назначена шефом 3-го гусарского Елисаветградского полка, что ее особенно обрадовало. После бала был ужин за маленькими круглыми столами». Сохранилась картина, на которой изображен этот самый бал: в центре – Великая Княжна Ольга Николаевна в паре со стройным и высоким молодым человеком в форме лейб-гвардейца.

Когда Ольге исполнилось восемнадцать лет, пришла пора решать вопрос с ее замужеством. В ноябре 1915 г. Царица писала мужу: «Жизнь – загадка, будущее скрыто завесой, и, когда я гляжу на нашу взрослую Ольгу, мое сердце наполняется тревогой и волнением: что ее ожидает? Какая будет ее судьба?» Рассматривалось несколько претендентов на руку Ольги, в том числе наследник румынского престола, будущий король Кароль II. Однако Царственные родители не собирались принуждать дочь.
По воспоминаниям министра иностранных дел С.Д. Сазонова, Александра Федоровна говорила: «Господь… устроил мою судьбу и послал мне семейное счастье, о котором я и не мечтала. Тем более я считаю себя обязанной предоставить моим дочерям право выйти замуж только за людей, которые внушат им расположение».
Пьер Жильяр описывает следующий случай: «В начале июля, когда мы были однажды наедине с Ольгой Николаевной, она вдруг сказала мне со свойственной ей прямотой, проникнутой той откровенностью и доверчивостью, которые дозволяли наши отношения, начавшиеся еще в то время, когда она была маленькой девочкой:
– Скажите мне правду, вы знаете, почему мы едем в Румынию?
Я ответил ей с некоторым смущением:
– Думаю, что это акт вежливости, которую Государь оказывает румынскому королю, чтобы ответить на его прежнее посещение.
– Да, это, быть может, официальный повод, но настоящая причина... Ах, я понимаю, вы не должны ее знать, но я уверена, что все вокруг меня об этом говорят, и что вы ее знаете.
Когда я наклонил голову в знак согласия, она прибавила:
– Ну так вот! Если я этого не захочу, этого не будет. Папа мне обещал не принуждать меня, а я не хочу покидать Россию.
– Но вы будете иметь возможность возвращаться сюда всегда, когда вам это будет угодно.
– Несмотря на все, я буду чужой в моей стране, а я русская и хочу остаться русской!»
Румынский принц не вызвал у Великой Княжны теплых чувств, и брак не состоялся, хотя, возможно, это помогло бы Ольге избежать ее страшной участи. Записи в дневниках Ольги Николаевны свидетельствуют о пережитой ею влюбленности, по одной из версий – в офицера императорской яхты «Штандарт» Павла Воронова, героя событий Мессинского землетрясения у Сицилии 1908 г. После революции в России П. Воронов эмигрировал в Америку и в 1964 г. был похоронен на кладбище Свято-Троицкого монастыря в г. Джорданвилл, штат Нью-Йорк; на его могиле стоит иконка с ликом мученицы Великой Княжны Ольги.
Начавшаяся Первая мировая война изменила облик России и жизнь императорской семьи. Как только была объявлена война, вспыхнул грандиозный патриотический подъем. Государыня и ее старшие дочери Ольга и Татьяна пошли работать медсестрами в царскосельские лазареты. «Их Величества, – вспоминает Татьяна Мельник-Боткина, – еще больше упростили и без того простой образ жизни своего двора, посвятив себя исключительно работе.
Государь лично потребовал, чтобы ввиду продовольственных затруднений был сокращен стол... Ее Величество, в свою очередь, сказала, что ни себе, ни Великим Княжнам она не сошьет ни одного нового платья, кроме форм сестер милосердия, да и те были заготовлены в таком скромном количестве, что Великие Княжны постоянно ходили в штопаных платьях и стоптанных башмаках, все же личные деньги Их Величеств шли на благотворительность».
Во всех дворцах были открыты склады Ее Императорского Величества, снабжавшие армию бельем и перевязочными средствами; оборудованы санитарные поезда имени всех членов Царской Семьи, подвозившие раненых в районы Москвы и Петрограда. Был открыт комитет Ее Императорского Высочества Великой Княжны Ольги Николаевны для оказания помощи семьям воинов, на заседаниях которого Ольга председательствовала лично. Для Великой Княжны это было очень нелегким делом: из-за своей стеснительности Ольга не любила заниматься общественной деятельностью и выступать с речами.
В одном из царскосельских лазаретов – Собственном Ее Величества лазарете – работали Государыня и две ее старшие дочери, как самые обыкновенные сестры милосердия. В этот лазарет с фронта привозили особо «привилегированных» раненых – без рук, без ног, с раздробленными черепами или с развороченными животами. Безмерную радость и утешение им приносили Государыня с дочерьми своим присутствием и работой. Правда, если из Татьяны Николаевны вышла спокойная, очень ловкая и дельная хирургическая сестра, то Великая Княжна Ольга, более слабая и здоровьем, и нервами, долгого присутствия на операциях не выдержала, и стала работать в палатах наравне с другими сестрами, убирая за больными.
«Великая Княжна Ольга взяла на себя утренний разнос лекарств по палатам, и обязанность эту она выполняла аккуратно до педантизма. Принесет, бывало, лекарство, улыбнется ласково, поздоровается, спросит, как вы себя чувствуете, и уйдет неслышно. … Мне говорили – раньше она работала и в перевязочной. Но ужасный вид искалеченных людей сильно расшатал ее хрупкую нервную систему, и она совсем отказалась от работы в перевязочной», – вспоминал один из офицеров, находившийся на лечении в Дворцовом лазарете.
«Великую Княжну Ольгу Николаевну все обожали, боготворили, – писала жительница Царского Села С. Я. Офросимова, – про нее больше всего любили мне рассказывать раненые… Великие Княжны... исполняли все, что им приказывали доктора, и даже мыли ноги раненым, чтобы тут же, на вокзале, очистить раны от грязи и предохранить от заражения крови. После долгой и тяжелой работы Княжны с другими сестрами размещали раненых по палатам».
Сохранились также воспоминания о Великой Княжне Ольге офицера 10-го Кубанского батальона С. П. Павлова, после ранения более года находившегося в Дворцовом лазарете: «Великая Княжна Ольга, говорили, была похожа на Государя. Не знаю. При мне Государь ни разу не приезжал в лазарет: он был на фронте. Но если Великая Княжна Ольга была похожа на Государя, то синие глаза Княжны говорили о том, что Государь был человек исключительной доброты и мягкости душевной.
Великая Княжна Ольга была среднего роста стройная девушка, очень пропорционально сложенная и удивительно женственная. Все ее движения отличались мягкостью и неуловимой грацией. И взгляд ее, быстрый и несмелый, и улыбка ее, мимолетная – не то задумчивая, не то рассеянная, – производили чарующее впечатление. Особенно глаза. Большие-большие, синие, цвета уральской бирюзы, горящие мягким, лучистым блеском и притягивающие.
В обращении Великая Княжна Ольга была деликатная, застенчивая и ласковая. По характеру своему – это была воплощенная доброта. Помню – раз мне было тяжело и неприятно: перевязки были моим кошмаром. Одно уже сознание, что вот, мол, через 20 минут меня возьмут на перевязку, кидало меня в холод и жар: такие страшные боли мне приходилось переживать. В этот день мне как раз предстояла перевязка.
Пришла Княжна Ольга. Посмотрела на мое расстроенное лицо и, улыбаясь, спросила:
– Что с вами? Тяжело?
Я откровенно рассказал ей, в чем дело.
Великая Княжна еще раз улыбнулась и промолвила:
– Я сейчас.
И действительно, с этого времени мне начали впрыскивать морфий не за 3-4 минуты до начала перевязки, как это делали раньше, и когда он не успевал действовать, а заблаговременно – минут за 10.
В другой раз поручику Сергееву Великая Княжна собственноручно написала письмо родным домой, так как у последнего была ампутирована правая рука. Вообще про доброту Княжны Ольги в лазарете рассказывали удивительные вещи…»
Тот же офицер С. П. Павлов писал: «В лазарете довольно часто устраивались и концерты… Аккомпанировала обыкновенно Великая Княжна Ольга Николаевна, обладавшая замечательным музыкальным слухом. Для нее, например, ничего не стоило подобрать аккомпанемент к совершенно незнакомой ей мелодии. Игра ее была тонкая и благородная, туше – мягкое и бархатное. До сих пор помню один вальс, старинный дедовский вальс – мягкий, грациозный и хрупкий, как дорогая фарфоровая игрушка – любимый вальс Великой Княжны Ольги. Мы часто просили Великую Княжну Ольгу сыграть нам этот вальс, и почему-то мне от него делалось всегда очень грустно».
Арест Царской Семьи в марте 1917 г. и последующие революционные события оказали сильное воздействие на Ольгу Николаевну. «Ужас революции повлиял на нее гораздо больше, чем на других, – отмечала Софи Буксгевден. – Она полностью изменилась, исчезла ее жизнерадостность». Из воспоминаний М.К.Дитерихса: «Великая Княжна Ольга Николаевна оставляла в изучавших ее натуру людях впечатление человека, как будто бы пережившего в жизни какое-то большое горе…
Бывало, она смеется, а чувствуется, что ее смех только внешний, а там, в глубине души, ей вовсе не смешно, а грустно». «Она была прирожденный мыслитель, и как позже выяснилось, понимала общую ситуацию лучше, чем кто-либо из членов ее семьи, включая даже родителей, – полагал Глеб Боткин, сын погибшего вместе с Царской Семьей лейб-медика Евгения Боткина. – Наконец, у меня сложилось впечатление, что она не питала иллюзий насчет того, какое будущее им уготовано, и, как следствие этого, была часто грустна и встревожена».
После ареста у Ольги Николаевны сильно расшаталось здоровье, она часто болела. Первой из сестер она заразилась корью; болезнь приняла тяжелую форму, перешла в тиф, протекала при температуре 40,5°. После выздоровления условия содержания Царской Семьи продолжали ухудшаться. Однако, несмотря на это, настроение у детей было бодрое и даже жизнерадостное.
22 июня 1917 г. Пьер Жильяр сделал следующую запись в своем дневнике: «Так как у Великих Княжон после болезни сильно падали волосы, им наголо обрили головы; когда они выходят в сад, то надевают шляпы, сделанные, чтобы скрыть отсутствие волос. В ту минуту, когда я собирался их фотографировать, они по знаку Ольги Николаевны быстро сняли шляпы. Я протестовал, но они настояли, забавляясь мыслью увидеть свои изображения в этом виде и в ожидании возмущенного удивления родителей. Несмотря на все, время от времени их юмор вновь проявляется; это – действие бьющей ключом молодости!»
В августе 1917 г. по решению Временного правительства Государь и его семья были отправлены в Тобольск, где провели восемь месяцев. В эти тяжелые дни главную свою задачу Великие Княжны видели в том, чтобы облегчить заботы и тревоги родителей, окружая их своей любовью, выражавшейся, по воспоминаниям окружавших, в самых трогательных и нежных знаках внимания. «Ты видишь, – писала Государыня в одном из своих писем мужу, – наши девочки научились наблюдать людей и их лица, они очень сильно развились духовно через все это страдание, они знают все, через что мы проходим, – это необходимо и делает их зрелыми. К счастью, они по временам большие дети, но у них есть вдумчивость и душевное чувство гораздо более мудрых существ».
На Рождество Государыня и Великие Княжны в течение долгого времени собственноручно готовили подарки для каждого из тех, кто последовал за ними в ссылку. Всенощную служил на дому местный священник. «Все собрались затем в большой зале, – вспоминает П. Жильяр, – и детям доставило большую радость преподнести предназначенные нам «сюрпризы». Мы чувствовали, что представляем из себя одну большую семью; все старались забыть переживаемые горести и заботы, чтобы иметь возможность без задних мыслей, в полном сердечном общении наслаждаться этими минутами спокойствия и духовной близости».
 «Здравствуй, Ритка, милая! – писала 26 декабря Великая Княжна Ольга бывшей придворной фрейлине Маргарите Хитрово. – Вот уже и Праздники. У нас стоит в углу залы елка и издает чудный запах, совсем не такой, как в Царском. Это какой-то особый сорт и называется «бальзамическая елка». Пахнет сильно апельсином и мандарином, и по стволу течет все время смола. Украшений нет, а только серебряный дождь и восковые свечи, конечно, церковные, т.к. других здесь нет.
«Здравствуй, Ритка, милая! – писала 26 декабря Великая Княжна Ольга бывшей придворной фрейлине Маргарите Хитрово. – Вот уже и Праздники. У нас стоит в углу залы елка и издает чудный запах, совсем не такой, как в Царском. Это какой-то особый сорт и называется «бальзамическая елка». Пахнет сильно апельсином и мандарином, и по стволу течет все время смола. Украшений нет, а только серебряный дождь и восковые свечи, конечно, церковные, т.к. других здесь нет.
После обеда, в сочельник, раздавали всем подарки, большею частью разные вышивки. Когда мы все это разбирали и назначали, кому что дать, нам совершенно напоминало базары в Ялте. Помнишь, сколько было всегда приготовлений? Всенощная была около 10 вечера, и елка горела. Красиво и уютно было».
В Рождественское утро все отправились в церковь. По приказанию священника дьякон провозгласил многолетие Царской Семье, что вызвало жестокие угрозы со стороны конвоиров, священник был удален. Этот случай привел к новым оскорбительным стеснениям по отношению к арестованным, наблюдение за ними сделалось еще более строгим.
В дни Великого Поста 1918 г. Богослужение совершалось на дому утром и вечером. Поскольку певчие не могли приходить, Императрица и Великие Княжны пели сами вместе с дьяконом. Несмотря на полное лишений и тревог пребывание в ссылке, Великие Княжны еще сохраняли бодрость духа. «Такие храбрые и хорошие, никогда не жалуются, я так довольна их душами», – писала Государыня из Тобольска.
Накануне Пасхи Государь и Государыня вместе с Великой Княжной Марией были перевезены в Екатеринбург. Ольга осталась в Тобольске при больном Алексее Николаевиче и младших сестрах. «Мне кажется, она гораздо больше всех в семье понимала их положение и сознавала опасность его, – писала Клавдия Битнер, воспитательница Царских детей в Тобольске. – Она страшно плакала, когда уехали отец с матерью из Тобольска».
Караулы при оставшихся царских детях были заняты латышами, один из которых уже на следующий день во время Богослужения был поставлен около аналоя следить за священником. «Это так всех ошеломило, – вспоминает полковник Е. С. Кобылинский, – что Великая Княжна Ольга Николаевна плакала и говорила, что если бы знала, что так будет, то она не стала бы просить о Богослужении!»
Обращение с Великими Княжнами вообще становилось все более жестоким и возмутительным. Им запрещали затворять на ночь дверь их спальни («чтобы я каждую минуту мог войти и видеть, что вы делаете», – говорил начальник караула Родионов), нельзя было без разрешения выходить гулять и даже спускаться на нижний этаж. Старшая из царских дочерей находилась в состоянии сильнейшей тревоги.
«Ольга Николаевна также сильно переменилась, – пишет Софи Буксгевден. – Тревоги и волнение из-за отсутствия родителей, и та ответственность, которая легла на нее, когда она осталась главой дома, чтобы ухаживать за больным братом, произвели перемену в нежной, красивой двадцатидвухлетней девушке, превратив ее в увядшую и печальную женщину средних лет. Она была единственной из Царевен, которая остро осознавала ту опасность, в которой находились ее родители».
В мае 1918 г. царские дети, наконец, покинули Тобольск, чтобы воссоединиться с родителями в Екатеринбурге. По словам Татьяны Мельник-Боткиной, охрана продолжала издеваться над юными Княжнами на пароходе: к открытым настежь дверям кают Великих Княжон были приставлены часовые, так что они даже не могли раздеться; вся провизия, присланная Их Высочествам жителями Тобольска и монастырем, была тотчас отобрана.
Переехав в дом Ипатьева, Великая Княжна Ольга из самой разговорчивой, очень обаятельной и веселой девушки превратилась в собственную тень, держалась отчужденно и печально. Охранники вспоминали, что «она была худая, бледная и выглядела больной. Она редко ходила на прогулки в сад и проводила большую часть времени рядом с братом». По свидетельству одного из конвоиров, Нетребина, все последние дни с 4 по 16 июля стоявшего как раз на центральном посту при входе в помещения узников, «бывшие княгини держали себя весело, иногда разговаривали… Старшая из них была худая до отвращения, на ней были только кожа да кости. Держала себя наподобие матери...»
И, тем не менее, несмотря на всю горечь положения, привитые Великой Княжне Ольге вера и любовь ко всем людям научили ее прощать оскорбления, злодейства и издевательства тяжелых дней заключения, породили в ее юном сердцах смирение и кроткую молитву за врагов. В доме Ипатьева впоследствии было найдено стихотворение Сергея Бехтеева, переписанное рукой Ольги Николаевны:
Пошли нам, Господи, терпенье
В годину буйных, мрачных дней,
Сносить народное гоненье
И пытки наших палачей.
Дай крепость нам, о Боже правый,
Злодейство ближнего прощать
И крест тяжелый и кровавый
С Твоею кротостью встречать.
И в дни мятежного волненья,
Когда ограбят нас враги,
Терпеть позор и оскорбленья,
Христос Спаситель, помоги!
Владыка мира, Бог вселенной.
Благослови молитвой нас
И дай покой душе смиренной
В невыносимый, страшный час.
И у преддверия могилы
Вдохни в уста Твоих рабов
Православный вестник. PDF
Добавив на главную страницу Яндекса наши виджеты, Вы сможете оперативно узнавать об обновлении на нашем сайте.
(15.11.1895 года [Царское село] - 17.07.1918 года [Екатеринбург]) Россия
Любимая дочь Императора Николая II, она наследовала от него все лучшие стороны его души: простоту, доброту, скромность, непоколебимую рыцарскую честность и всеобъемлющую любовь к Отчизне – естественную, не показную, как бы впитанную с рождения.. Долголетняя воспитанница и старшая дочь Императрицы Александры Феодоровны, она восприняла от нее искреннюю и глубокую евангельскую веру, прямоту, уменье владеть собой, крепость духа.
Из всех дочерей Императора только ей одной посчастливилось танцевать на взрослых, не «розовых» балах*(* «Розовыми» или «детскими» назывались балы, где присутствовали девочки 13 - 15 лет. – С. М.) .. Из всей их дружной сестринской четверки с затейливо – чарующим ароматом вензеля – печати – подписи: «ОТМА», только она одна успела испытать нежное прикосновение крыльев Первой любви. Но что оно принесло ей, это легкое, невесомое прикосновение? Острое, ни с чем не сравнимое ощущение счастья, пленительную очарованность жеста, взгляда, в которых отразился неясный трепет сердца, или – горечь боли и разочарования, так знакомой всем нам от первого мига создания мира, нам, дочерям Евы и наследницам Лилит?
Никто ничего не знает доподлинно. Имя ее Возлюбленного точно до сих пор не установлено никем из историков. Только - догадки, фантазии, легенды..
«Святая тайна души молодой девушки» (*Фраза Государыни Александры Феодоровны из письма мужу, Императору Николаю Второму. – С. М.) осталась с нею навсегда. Ее дневники почти не уцелели – она сожгла их, практически все, во время одного из обысков в страшном екатеринбургском заключении. Последний из них, предсмертный, кажется предельно скупым, зашифрованным, безликим. Но в нем столько боли и желания жить, такая жажда обретения потерянной навсегда золотой нити спокойного, гармоничного семейного мира, в котором она выросла и который потеряла… Тогда, в феврале 1917 - го года.. А, может быть, многим ранее, осенью 1905- го…
Ее письма к отцу - Императору хранятся в архивах за семью печатями и замками. Возможно, архивариусы и исследователи думают, что публиковать большими тиражами наивные рассуждения молодой девицы «царского роду – племени», проходившей почти всю жизнь в кисейных платьях и кружевных косынках (*связанных часто собственноручно – С.М.) совсем – совсем не интересно. Конечно, они правы. Стремительный 21 век, с его высокими технологиями, виртуальными мирами и странным, диссонансным на фоне всего этого, чересчур резким падением вниз Души, не греховной, нет, а просто - измученной противоречиями и страстями телесными – этот век так далек от неспешности начала двадцатого, где проходила ее Жизнь,где писалась на скрижалях Памяти ее личная Судьба, что и совсем уже не удивляешься видимой ненужности Судьбы этой, нам, ленивым и нелюбопытным, насмешливым, твердым, рассудочным потомкам! Все уходит бесследно, золотою пылью в песок Времени, Вселенной, Вечности. А Вечность – так холодна! Но.. Но мой взгляд снова останавливается на обрывках писем и документов, а душа обжигается строчками воспоминаний, делящих ее Путь на «до» и «после».. И я задумываюсь. И начинаю плести незатейливое кружево из бесхитростных, давних воспоминаний, писем, картин, книг, этюдов, обрывков цитат…
Какою же она была, старшая Цесаревна, любимая дочь императора Николая Второго, сестра милосердия Царскосельского лазарета, русская принцесса из светлой сказки с печальным трагическим концом?
Какою она была, эта воздушная фея в газовом платье, с розовою лентою в волосах, та самая маленькая девочка, которой при рождении акушерка предсказала счастливую судьбу, ибо головку новорожденной густо покрывали светло - русые колечки - кудри.
Я пытаюсь догадаться и написать, нарисовать штрихи и зигзаги ее Судьбы для Вас. И начинать мне приходится с самого страшного.
Цесаревна и Великая княжна Ольга Николаевна Романова умерла в одно мгновение, вместе с родителями, получив пулю прямо в сердце. Перед смертью она успела перекреститься. Ее не докалывали штыками заживо, как остальных ее сестер. Если это можно считать счастьем, то - да, старшей дочери последнего Государя России крупно повезло!
Но обратимся к началу столь «необычно - счастливого пути» порфироносного ребенка. К рождению его и младенчеству. К первым главам жизни.
Она появилась на свет 315 ноября 1895 года в Царском Селе. Была веселой, подвижной девочкой, любимицей отца, который первое время сравнивал ее «достижения» с «достижениями» дочери своей сестры Ксении - Ирины. И записывал в дневнике, не скрывая гордости: «Наша Ольга весит чуть больше». «На крестинах наша была спокойнее и не так кричала, когда окунали...»
Однажды, кто-то из взрослых гостей спросил шутливо, вытаскивая ее из под стола, куда она залезла, пытаясь стянуть со скатерти какой-то предмет:
Я - великая княжна... - отвечала она вздохнув.
Ну, какая ты княжна, до стола не дотянулась!
Я и сама не знаю. А вы спросите папа, он все знает... Он Вам скажет, кто я.
Серьезно ответила Ольга и поковыляла на нетвердых еще ногах, навстречу смеху и улыбкам гостей...(Э. Радзинский. «Николай II: Жизнь и смерть». Гл.5. Царская Семья.)
Совсем крошечными, все девочки- цесаревна были приучены матерью держать в руках иглу или пяльцы для вышивания, спицы для вязания, мастерить крохотные одежды для кукол. Александра Федоровна считала, что даже маленькие девочки должны быть чем-то заняты.
Ольга любила играть с сестрой Татьяной, родившейся 28 мая 1897 года, (Тоже в Царском Селе). Русская речь перемешивалась с английской и французской, поровну делились сладости, печенья и игрушки... Игрушки переходили от старших к младшим. По вечерам девочки затихали около матери, читающей им сказки или негромко напевающей английские народные песенки. Отцу старшие девочки радовались несказанно, но даже вечерами видели его редко, знали, что занят...
Когда выдавалась свободная минута, он брал обоих русоволосых крох на колени и рассказывал им сказки, но уже не английские, а русские, длинные, немного страшные, наполненные волшебством и чудесами…
Маленьким озорницам разрешалось осторожно гладить пышно-пушистые усы, в которых пряталась мягкая, чуть лукавая улыбка.
Они подрастали, начиналась вязкая скука уроков грамматики, французского, английского. Строгие гувернантки следили за их осанкой, манерами, движениями, умением вести себя за столом.
Впрочем, все было ненавязчиво и просто, никаких излишеств в еде и лакомствах. Много чтения. Да и времени много на шалости не было, вскоре у Ольги появились младшие сестры - Мария (род. 26 июня 1899 г. Петергоф) и Анастасия (род. 18 июня 1901 г. Петергоф). Они играли все вместе и учились, играя.. Старшие присматривали за младшими.
Спали все четверо в одной комнате на складных, походных кроватях. Даже одеваться юные принцессы старались одинаково. А вот содержание письменных столов у всех было разным... любимые книги, акварели, гербарии, альбомы с фотографиями, иконы. Каждая из них старательно вела дневник. Сначала это были дорогие альбомы с золотым тиснением и застежками, на муаровой подкладке, потом - после февральской бури и ареста - простые тетрадки с карандашными записями. Многое было уничтожено во время обысков в Тобольске и Екатеринбурге, многое, как я уже не раз говорила, неизвестно, или - бесследно пропало...
Девочки много занимались спортом: играли в мяч, катались на велосипеде, хорошо бегали и плавали, увлекались новомодным тогда теннисом, верховой ездой, по утрам обливались холодной водой, вечером принимали теплые ванны. Их день всегда был расписан по минутам строгой Императрицей - матерью, они никогда не знали праздной скуки.
Ольга и Татьяна во время летнего отдыха в финских шхерах любили разыскивать маленькие кусочки янтаря или красивые камешки, а на полянах Беловежья и Спалы (Польша) - грибы и ягоды.. Они ценили каждую минуту отдыха, которую могли провести вместе с родителями или в уединении – за чтением и дневниками.
Так об руку с неразлучной красавицей сестрою Татьяной и младшими сестренками, к которым она относилась с материнской нежностью и строгостью, Ольга Николаевна, старшее дитя в дружной и любящей семье, незаметно для себя пленительно превращалась из полненькой, живой девчушки с несколько широким лицом, в очаровательную девушку - подростка.
Юлия Александровна Ден, друг Государыни Александры Феодоровны, вспоминала позднее, уже в эмиграции: "Самой старшей из четырех сестер- красавиц была великая княжна Ольга Николаевна. Это было милое создание. Всякий, кто видел ее, тотчас влюблялся. В детстве она была некрасивой, но в пятнадцать лет как -то сразу похорошела. Немного выше среднего роста, свежее лицо, темно-синие глаза, пышные светло-русые волосы, красивые руки и ноги. К жизни Ольга Николаевна относилась серьезно, была наделена умом и покладистым характером. На мой взгляд, это была волевая натура, но у нее была чуткая, хрустальная душа". Преданный друг Царской семьи Анна Танеева – Вырубова вспоминая о старшей дочери Царя, как бы дополняла Юлию Александровну Ден:
«Ольга Николаевна была замечательно умна и способна, и учение было для нее шуткой, почему она иногда ленилась. Характерными чертами у нее были сильная воля и неподкупная честность и прямота, в чем она походила на мать. Эти прекрасные качества были у нее с детства, но ребенком Ольга Николаевна бывала нередко упряма, непослушна и очень вспыльчива; в последствии она умела себя сдерживать. У нее были чудные белокурые волосы, большие голубые глаза и дивный цвет лица, немного вздернутый нос, походивший на государев».
Баронесса София Буксгевден тоже оставила свое, такое же гармоничное, «влюбленное» описание Цесаревны:"Великая княжна Ольга Николаевна была красивая, высокая, со смеющимися голубыми глазами... она прекрасно ездила верхом, играла в теннис и танцевала. Из всех сестер она была самая умная, самая музыкальная; по мнению ее учителей, она обладала абсолютным слухом. Она могла сыграть любую услышанную мелодию, переложить сложные музыкальные пьесы... Ольга Николаевна была очень непосредственна, иногда - слишком откровенна, всегда искренна. Она была очень обаятельная и самая веселая. Когда она училась, бедным учителям приходилось испытывать на себе множество ее всевозможных штучек, которые она изобретала, чтобы подшутить над ними. Да и повзрослев, она не оставляла случая позабавиться. Она была щедра и немедленно отзывалась на любую просьбу, действуя под влиянием сердечного, горячего порыва и огромного чувства сострадания, сильно в ней развитого….»
Великая Княжна Ольга Николаевна Романова родилась в ноябре 1895 года, была первым ребенком в . Родители не могли нарадоваться её появлению. Ольга отличилась способностями в изучении наук, любила уединение и книги.
Великая княжна была очень умна, у нее отмечались творческие способности. Вела себя со всеми просто и естественно. Княжна была удивительно отзывчива, искренна и щедра. Первая дочь унаследовала от матери черты лица, осанку, а также волосы золотистого оттенка.
От Николая Александровича же, дочь унаследовала внутренний мир. Она, как и её отец, обладала удивительно чистой христианской душой. Царевна отличалась врожденным чувством справедливости, не любила вранье. Этим она сразу располагала к себе людей.
Взрослея, все больше времени проводила с отцом. Николай II брал с собой дочь на Богослужение и на смотр полковых учений. Ольга Николаевна была шефом Третьего Гусарского Елизаветинского полка. В годы войны с Японией, Император любил гулять с дочкой и видел в ней единственное утешение от неприятностей событий той войны.
Девочка была глубоко верующим человеком. С детства ей были характерны честность и прямота. Княжна была всегда искренна, а иногда даже через чур откровенна, была обаятельна и весела. В свободное время Ольга любила кататься на лошадях, общаться с братом - , играть на рояле.
Когда ей стали выдавать первые деньги на личные нужды, она первым делом решила оплатить лечение ребенка инвалида, которого во время прогулок, она часто видела. Мальчик сильно прихрамывал и ходил с костылями. Она долго откладывала часть личных денег на лечение мальчика.
Вскоре грянула . Княжна, как и её мать и сестры, была сестрой милосердия. Сначала была хирургической сестрой, работа не из легких. Ужасы хирургических операций Ольга не смогла долго выносить. Быть сестрой милосердия она продолжила, но не в хирургическом отделении. Встречая на вокзале новых раненых, доставленных прямо с фронта, ей не раз приходилось мыть больным ноги, и ухаживать за ними. Однако себя княжны выдавали редко, на равных общаясь с простыми русскими солдатами.
Во время войны, Ольга и её сестры были членами комитета помощи солдатским семьям, где проделали большую работу. Она много делала для блага общества, однако очень стеснялась своей публичности. Великая княжна Ольга Романова беззаветно любила свою Родину и семью, очень переживала за больного царевича Алексея, радовалась сестрам, сопереживала матери, и тревожилась за отца.
Ольга Николаевна Романова - дочь Николая II, старший ребенок. Как и все члены императорской семьи, она была расстреляна в подвале дома в Екатеринбурге летом 1918 года. Юная княжна прожила недолгую, но насыщенную жизнь. Она единственная из детей Николая успела побывать на настоящем балу и даже планировала выйти замуж. В годы войны она самоотверженно работала в госпиталях, помогая раненным на фронте солдатам. Современники с теплотой вспоминали девушку, отмечая ее доброту, скромность и приветливость. Что же известно о жизни юной княжны? В этой статье расскажем подробно о ее биографии. Фото Ольги Николаевны также можно будет увидеть ниже.
Рождение девочки
В ноябре 1894 года состоялось венчание новоиспеченного императора Николая с его невестой Алисой, которая после принятия православия стала именоваться Александрой. Уже через год после свадьбы царица родила на свет свою первую дочь - Ольгу Николаевну. Родственники впоследствии вспоминали, что роды были довольно тяжелыми. Княгиня Ксения Николаевна, родная сестра Николая, в своих дневниках писала, что младенца врачи были вынуждены вытаскивать из матери щипцами. Однако маленькая Ольга родилась здоровым и крепким ребенком. Родители ее, конечно, надеялись, что на свет появится сын, будущий наследник. Но при этом они не расстроились, когда родилась дочь.
Ольга Николаевна Романова появилась на свет 3 ноября 1895 года по старому стилю. Роды врачи принимали в Александровском дворце, который находится в Царском Селе. А уже 14 числа того же месяца она была крещена. Ее крестными родителями стали близкие родственники царя: его мать императрица Мария Федоровна и дядя Владимир Александрович. Современники отмечали, что новоиспеченные родители дали дочери вполне традиционное имя, которое было довольно распространено в семье Романовых.
Ранние годы
Княжна Ольга Николаевна недолго была единственным ребенком в семье. Уже в 1897 году на свет появилась ее младшая сестра - Татьяна, с которой она была удивительно дружна в детстве. Вместе с ней они составляли "старшую пару", именно так шутливо именовали их родители. Сестры жили в одной комнате, вместе играли, проходили обучение и даже носили одинаковую одежду.
Известно, что в детстве княжна отличалась довольно вспыльчивым нравом, хотя и была добрым и способным ребенком. Нередко она бывала чересчур упрямой и раздражительной. Из развлечений девочка любила кататься с сестрой на двухместном велосипеде, собирала грибы и ягоды, рисовала и играла в куклы. В ее уцелевших дневниках остались упоминания о собственном коте, которого звали Васькой. Его великая княжна Ольга Николаевна очень любила. Современники вспоминали, что внешне девочка очень походила на своего отца. С родителями она нередко спорила, считалось, что она была единственной из сестер, которая могла возразить им.

В 1901 году Ольга Николаевна заболела брюшным тифом, но смогла поправиться. Как и у других сестер, у княжны была собственная няня, разговаривавшая исключительно на русском языке. Ее специально взяли из крестьянской семьи, чтобы девочка лучше усваивала родную культуру и религиозные обычаи. Жили сестры довольно скромно, их заведомо не приучали к роскоши. Например, спала Ольга Николаевна на походной складной кровати. Воспитанием же занималась ее мать - императрица Александра Федоровна. С отцом девочка виделась гораздо реже, так как он всегда был поглощен делами управления страной.
С 1903 года, когда Ольге исполнилось 8 лет, она стала чаще появляться на публике вместе с Николаем II. С. Ю. Витте вспоминал, что до рождения в 1904 году сына Алексея царь всерьез обдумывал сделать своей наследницей старшую дочь.
Подробнее о воспитании
Семья Ольги Николаевны старалась привить дочери скромность и нелюбовь к роскоши. Обучение же ее было весьма традиционным. Известно, что ее первой учительницей была чтица императрицы Е. А. Шнейдер. Отмечалось, что княжна сильнее других сестер любила читать, а впоследствии увлеклась написанием стихов. К сожалению, многие из них были сожжены княжной уже в Екатеринбурге. Она была довольно способным ребенком, поэтому обучение ей давалось легче, чем другим царским детям. Из-за этого девочка довольно часто ленилась, чем нередко злила своих учителей. Ольга Николаевна любила шутить и обладала отменным чувством юмора.
Впоследствии ее обучением стал заниматься целый штаб преподавателей, старшим из которых был учитель русского языка П. В. Петров. Княжны изучали также французский, английский и немецкий. Однако на последнем из них они так и не научились говорить. Между собой сестры общались исключительно по-русски.

Кроме того, близкие друзья царской семьи указывали, что княжна Ольга обладала способностями к музыке. В Петрограде она обучалась пению и умела играть на рояле. Учителя считали, что девушка обладала идеальным слухом. Она без труда могла без нот воспроизвести сложные музыкальные пьесы. Также княжна увлекалась игрой в теннис и хорошо рисовала. Считалось, что она больше предрасположена к искусству, а не к точным наукам.
Отношения с родителями, сестрами и братом
По мнению современников, княжна Ольга Николаевна Романова отличалась скромностью, дружелюбием и общительностью, хотя и была иногда излишне вспыльчивой. Впрочем, это никак не сказалось на ее отношениях с другими членами семьи, которых она безгранично любила. Княжна была очень дружна со своей младшей сестрой Татьяной, хотя они и имели практически противоположные характеры. В отличие от Ольги, ее младшая сестра была скупа на эмоции и более сдержана, зато отличалась исполнительностью и любила брать на себя ответственность за других. Они были практически погодками, вместе росли, жили в одной комнате и даже учились. С другими сестрами княжна Ольга тоже была дружна, но из-за разницы в возрасте такой близости, как с Татьяной, у них не сложилось.
Со своим младшим братом Ольга Николаевна тоже поддерживала хорошие отношения. Он же любил ее сильнее других девочек. Во время ссор с родителями маленький цесаревич Алексей нередко и вовсе заявлял, что он теперь не их сын, а Ольги. Как и другие дети царской семьи, их старшая дочь была привязана к Григорию Распутину.

Княжна была близка со своей матерью, но наиболее доверительные отношения у нее сложились именно с отцом. Если Татьяна внешне и по характеру походила во всем на императрицу, то Ольга была копией своего отца. Когда девочка подросла, то он часто с ней советовался. Николай II ценил свою старшую дочь за независимое и глубокое мышление. Известно, что в 1915 году он даже приказал разбудить княжну Ольгу после того, как получил важные новости с фронта. В тот вечер они долго гуляли по коридорам, царь зачитывал ей вслух телеграммы, слушая советы, которые ему давала дочь.
Во время Первой мировой войны
По традиции, в 1909 году княжна была назначена почетным командиром гусарского полка, который теперь носил ее имя. Она нередко фотографировалась в парадной форме, появлялась на их смотрах, но на этом ее обязанности заканчивались. После вступления России в Первую мировую войну императрица вместе с дочерьми не стала отсиживаться за стенами своих дворцом. Царь же и вовсе стал редко навещать свою семью, большую часть времени проводя в разъездах. Известно, что мать и дочери прорыдали весь день, узнав о вступлении России в войну.
Александра Федоровна практически сразу же приобщила своих детей к работе в военных госпиталях, расположенных в Петрограде. Старшие дочери прошли полноценное обучение и стали настоящими сестрами милосердия. Они принимали участие в тяжелых операциях, ухаживали за военными, делали им перевязки. Младшие же из-за своего возраста только помогали раненым. Княжна Ольга также уделяла немало времени и общественной работе. Как и другие сестры, она занималась сбором пожертвований, отдавала на лекарства собственные сбережения.
На фото княжна Ольга Николаевна Романова вместе с Татьяной работает в военном госпитале сестрой милосердия.

Возможное замужество
Еще до начала войны, в ноябре 1911 года, Ольге Николаевне исполнилось 16 лет. По традиции именно в это время великие княжны становились совершеннолетними. В честь этого события был организован великолепный бал в Ливадии. Ей также было подарено немало дорогих украшений, в том числе бриллианты и жемчуг. А ее родители стали всерьез задумываться о скором замужестве старшей дочери.
На самом деле, биография Ольги Николаевной Романовой могла быть не такой трагичной, если бы она все-таки стала женой одного из членов монарших домов Европы. Если бы княжна вовремя покинула Россию, то она смогла бы остаться в живых. Но сама Ольга считала себя русской и мечтала выйти замуж за соотечественника и остаться дома.

Ее желание вполне могло сбыться. В 1912 году ее руки попросил великий князь Дмитрий Павлович, который приходился внуком императору Александру II. Судя по воспоминаниям современников, Ольга Николаевна тоже симпатизировала ему. Официально была даже назначена дата помолвки - 6 июня. Но вскоре она была разорвана по настоянию императрицы, которой молодой князь категорически не нравился. Некоторые современники считали, что именно из-за этого события Дмитрий Павлович впоследствии и принял участие в убийстве Распутина.
Уже во время войны Николай II рассматривал возможную помолвку своей старшей дочери с наследником румынского престола принцем Каролем. Однако свадьба так и не состоялась, потому что княжна Ольга категорически отказывалась покинуть Россию, а ее отец не стал настаивать. В 1916 году в женихи девушке был предложен великий князь Борис Владимирович - еще один внук Александра II. Но и на этот раз императрица отвергла предложение.
Известно, что Ольга Николаевна была увлечена лейтенантом Павлом Вороновым. Исследователи считают, что именно его имя она шифровала в своих дневниках. После начала ее работы в госпиталях Царского Села княжна симпатизировала другому военному - Дмитрию Шах-Багову. Она довольно часто писала о нем в своих дневниках, но их отношения развития не получили.
Февральская революция
В феврале 1917 года княжна Ольга сильно заболела. Сначала она слегла с воспалением уха, а после, как и другие сестры, заразилась от одного из солдат корью. Впоследствии к ней также добавился тиф. Заболевания протекали довольно тяжело, княжна долгое время лежала в бреду с высокой температурой, поэтому узнала о беспорядках в Петрограде и революции уже только после отречения отца от престола.
Вместе с родителями Ольга Николаевна, уже оправившаяся от болезни, принимала в одном из кабинетов Царскосельского дворца главу Временного правительства - А. Ф. Керенского. Эта встреча сильно потрясла ее, поэтому вскоре княжна снова слегла, но уже от воспаления легких. Окончательно поправиться она смогла только к концу апреля.
Домашний арест в Царском Селе
После выздоровления и до отъезда в Тобольск Ольга Николаевна с родителями, сестрами и братом проживала под арестом в Царском Селе. Режим их был довольно оригинальным. Вставали члены царской семьи рано утром, затем гуляли в саду, а после долго работали в созданном ими огороде. Также уделялось время и дальнейшему обучению младших детей. Ольга Николаевна преподавала своим сестрам и брату английский язык. Кроме того, из-за перенесенной кори у девушек сильно выпадали волосы, поэтому было принято решение обстричь их. Но сестры не унывали и прикрывали головы специальными шляпами.

Со временем Временное правительство все сильнее урезало их финансирование. Современники писали, что весной во дворце не хватало дров, поэтому во всех комнатах было холодно. В августе и вовсе было принято решение о переводе царской семьи в Тобольск. Керенский вспоминал, что выбрал этот город из соображений безопасности. Он не представлял возможным переезд Романовых на юг или в центральную часть России. Кроме того, он указывал, что в те годы многие из его приближенных требовали расстрелять бывшего царя, так что ему необходимо было срочно увезти его семью подальше от Петрограда.
Интересно, что еще в апреле рассматривался план выезда Романовых в Англию через Мурманск. Временное правительство не противилось их отъезду, однако его было решено отложить из-за тяжелой болезни княгинь. Но после их выздоровления английский король, который приходился Николаю II двоюродным братом, отказался принять их из-за ухудшившейся политической обстановки в собственной стране.
Переезд в Тобольск
В августе 1917 года великая княжна Ольга Николаевна вместе со своей семьей прибыла в Тобольск. Изначально их должны были разместить в губернаторском доме, но он не был подготовлен к их приезду. Поэтому Романовым пришлось еще неделю жить на пароходе "Русь". Сам Тобольск царской семье понравился, и они отчасти были даже рады тихой жизни вдали от бунтующей столицы. Их поселили на втором этаже дома, однако выходить в город им запрещалось. Зато по выходным можно было посещать местную церковь, а также писать письма своим родным и близким. Однако вся корреспонденция тщательно прочитывалась охраной дома.
Об Октябрьской революции бывший царь и его семья узнали с опозданием - новости пришли к ним только в середине ноября. С этого момента их положение значительно ухудшилось, а Солдатский комитет, который охранял дом, относился к ним довольно враждебно. По приезду в Тобольск княжна Ольга много времени проводила с отцом, гуляла с ним и Татьяной Николаевной. По вечерам девушка играла на рояле. Накануне 1918 года княжна снова тяжело заболела - на этот раз краснухой. Девушка быстро поправилась, но со временем все чаще стала замыкаться в себе. Она больше времени проводила за чтением и почти не принимала участия в домашних спектаклях, которые устраивали другие сестры.
Ссылка в Екатеринбург
В апреле 1918 года большевистское правительство приняло решение перевезти царскую семью из Тобольска в Екатеринбург. Сначала был организован переезд императора и его жены, которым разрешили взять с собой только одну дочь. Сначала родители выбрали Ольгу Николаевну, но она еще не успела оправиться от болезни и была слаба, поэтому выбор пал на ее младшую сестру - княжну Марию.
После отъезда Ольга, Татьяна, Анастасия и цесаревич Алексей провели в Тобольске еще чуть больше месяца. Отношение охраны к ним по-прежнему было враждебным. Так, например, девушкам запрещено было затворять двери своих спален, чтобы солдаты могли в любой момент зайти и посмотреть, что они делают.

Только 20 мая оставшиеся члены царской семьи были отправлены вслед за родителями в Екатеринбург. Там всех княгинь разместили в одной комнате на втором этаже дома купца Ипатьева. Распорядок дня был довольно строгим, покидать помещения без разрешения охраны было нельзя. Практически все свои дневники Ольга Николаевна Романова уничтожила, понимая, что положение их становится все хуже. То же самое сделали и другие члены семьи. Уцелевшие записи того времени отличаются краткостью, ведь нелестно описывать охрану и нынешнюю власть могло быть опасно.
Вместе со своей семьей Ольга Николаевна вела тихую жизнь. Они занимались вышиванием или вязанием. Иногда княжна выносила уже больного цесаревича на короткие прогулки. Часто сестры пели молитвы и духовные песнопения. По вечерам солдаты заставляли их играть на пианино.
Расстрел царской семьи
К июлю большевикам стало понятно, что удержать Екатеринбург от белогвардейцев они не могут. Поэтому в Москве было принято решение устранить царскую семью, чтобы не допустить ее возможного освобождения. Расстрел был проведен в ночь на 17 июля 1918 года. Вместе с семьей также были убита и вся свита, последовавшая за царем в ссылку.
Судя по воспоминаниям большевиков, которые привели приговор в исполнение, Романовы не знали, что их ждет. Им приказали спуститься в подвальное помещение, потому что с улицы доносились выстрелы. Известно, что Ольга Николаевна перед расстрелом встала за своей матерью, сидевшей на стуле из-за болезни. В отличие от других сестер, старшая из княгинь умерла сразу же после первых выстрелов. Ее не спасли драгоценности, зашитые в корсет ее платья.
Последний раз охрана дома Ипатьева видела княжну живой непосредственно в день убийства на прогулке. На этом фото Ольга Николаевна Романова сидит в комнате вместе со своим братом. Считается, что это ее последнее сохранившееся изображение.

Вместо заключения
После расстрела тела членов царской семьи были вывезены из дома Ипатьева и закопаны в Ганиной яме. Уже через неделю белогвардейцы вошли в Екатеринбург и провели свое расследование убийства. В 30-х годах XX века во Франции появилась девушка, выдававшая себя за старшую дочь Николая II. Ею оказалась самозванка Марга Бодтс, однако общественность и выжившие Романовы практически не обратили на нее внимания.
Поисками останков членов царской семьи полноценно занялись только после распада СССР. В 1981 году Ольгу Николаевну и других членов ее семьи канонизировали в лике святых. В 1998-м останки княжны были торжественно перезахоронены в Петропавловской крепости.
Известно, что старшая дочь Николая II увлекалась поэзией. Нередко ей приписывают создание стихотворения "Пошли нам, Господи, терпения", написанного Сергеем Бехтеевым. Он был известным поэтом-монархистом, и девушка переписала его творение к себе в альбом. Собственные стихи Ольги Николаевны Романовой не сохранились. Историки считают, что большая их часть была уничтожена после ссылки. Их сожгла сама княжна вместе со своими дневниками, чтобы они не попали в руки большевиков.
Дочь российского императора Николая II и императрицы Александры Федоровны (в девичестве Виктории Алисы Елены Луизы Беатрисы Гессен-Дармштадтской) Ольга была первенцем и родилась в первую годовщину бракосочетания родителей. А ещё это был день рождения её бабушки, вдовствующей императрицы Марии Федоровны. За год до этого только день рождение императрицы позволило отступить от траура по недавно умершему Александру III и сыграть свадьбу.
Родилась Ольга Николаевна крупненькой (10 фунтов, 55 см) и здоровенькой, хотя её матери эти роды дались очень тяжело. Имя получила традиционное, Ольг в династии Романовых было немало.
Ольга Николаевна в 2 года

Ольга Николаевна в 7 лет

Княжна Ольга в матросском костюме
В 14 лет, что тоже было традицией, "получила" свой полк. Ольга была назначена шефом (почётным командиром) 3-го Елизаветградского гусарского Её Императорского Высочества Великой Княжны Ольги Николаевны полка Русской императорской армии.

Ольга Николаевна в форме своего полка
Шалила, как все дети. Занималась пением, много читала. В отличии от, родившейся через полтора года, Татьяны, маминой дочки, Ольга была дочкой папиной. Была на него во многом похожа. С ним она была ближе, чем с матерью.

Великие княжны Ольга и Татьяна
Судя по описаниям фрейлин и учителей, Ольга была интровертом. Любила уединение и книги. Кота своего, Ваську, очень любила. Любила простую одежду, не любила роскоши, зато очень любила верховую езду...

Кстати учителя выделяли её среди остальных великих княжон, как самую способную, она всё схватывала на лету.

Ольга в костюме боярыни (1913г)
Фрейлина Анна Вырубова так описывала внешние особенности и характер Ольги Николаевны: «Ольга Николаевна была замечательно умна и способна, и учение было для нее шуткой, почему Она иногда ленилась. Характерными чертами у нее были сильная воля и неподкупная честность и прямота, в чем Она походила на Мать. Эти прекрасные качества были у нее с детства, но ребенком Ольга Николаевна бывала нередко упряма, непослушна и очень вспыльчива; впоследствии Она умела себя сдерживать. У нее были чудные белокурые волосы, большие голубые глаза и дивный цвет лица, немного вздёрнутый нос, походивший на Государев. "
Отмечают вспыльчивость и раздражительность и остальные. Стоит отметить, что Ольга единственная из четырёх сестёр могла открыто возражать отцу с матерью и очень неохотно покорялась родительской воле, если этого требовали обстоятельства. Но покорялась, куда деться...

Ольга, Татьяна, Мария и Анастасия (раскрашенных снимков в сети немало, но этот самый приличный, на мой взгляд)

В 1912 должна была, но так и не состоялась помолвка великого князя Дмитрия Павловича Романова (1891-1942) с Ольгой, однако Александра Фёдоровна настояла на разрыве отношений между влюбленными. Дмитрий не скрывал своего резко отрицательного отношения к Григорию Распутину, а это Александру Федоровну коробило. Все мы знаем, чем закончилось это для Дмитрия Павловича и Распутина через 4 года.

Великая княжна Ольга Николаевна в парадном придворном платье
Во время Первой мировой войны имелся план брака Ольги с румынским принцем (будущим Каролем II(1893-1953))
. Но план не осуществился - Ольга Николаевна категорически отказывалась покидать Родину, жить в чужой стране, говорила, что она русская и хочет оставаться таковой.
Наверное это хорошо, поскольку принц Кароль с юности был известен эксцентричным поведением и скандальным образом жизни; по свидетельствам современников, страдал приапизмом (это такая штука...короче сами погуглите, мне неловко), толкавшим его на «сексуальные эскапады»; имел массу любовниц и так далее в этом духе.

Ольга в 19 лет
В январе 1916 года Великая княгиня Мария Павловна предлагала в женихи Ольге своего сына — Великого князя Бориса Владимировича Романова (1877-1943) . Ну, уж это совсем... 39 лет и 20! К тому же у князя Бориса уже была постоянная любовница (позже морганатическая жена), о которой все знали. Этот вариант был отклонен императрицей Александрой Федоровной. Она писала супругу: "Мысль о Борисе слишком несимпатична, и Я уверена, что Наша Дочь никогда бы не согласилась за него выйти замуж, и Я Ее прекрасно поняла бы ". Тут же Ее Величество добавляет: "У нее в голове и сердце были другие мысли - это святые тайны молодой девушки, другие их не должны знать, это для Ольги было бы страшно больно. Она так восприимчива " (об этих мыслях - чуть позже). Мария Павловна и до этого не очень любившая императорскую семью (а чего вот сваталась спрашивается тогда?) затаила обиду.
В те годы была у Ольги Николаевны душевная привязанность - старший лейтенант Павел Воронов , офицер паровой яхты «Штандарт». Это известно из её дневников, в них тайнописью она называет его "счастьем" и "солнцем"...

Павел Алексеевич Воронов

Ольга на борту яхты

Яхта «Штандарт» на ялтинском рейде
Паровая яхта «Штандарт» была плавучим домом семьи Романовых, и домом очень любимым. Жаркое крымское лето было противопоказано императрице, и потому летние месяцы Романовы проводили на борту яхты, крейсирующей в финских шхерах. А осенью «Штандарт» доставлял августейшую семью из Севастополя в Ялту. Случалось, что Александра Федоровна вместе с Ольгой и Татьяной наведывались в ходовую рубку корабля, украдкой совали вахтенным офицерам пирожные и конфеты, дабы скрасить нелегкую и ответственную службу. Вот тут где-то всё и началось...
Павел Алексеевич Воронов, на тот момент 25-летний моряк, сын потомственного дворянина Костромской губернии. По окончании Морского Кадетского корпуса, получил назначение на крейсер "Адмирал Макаров" и отправился в заграничное плавание. В экипаже "Штандарта" мичман Воронов появился вскоре после прогремевшего на весь мир события - мессинского землетрясения. 15 декабря мощные подземные толчки сотрясли Сицилия. Его последствия были равнозначны взрыву атомной бомбы в Хиросиме: десятки тысяч людей оказались заживо погребенными под руинами Мессины и других сицилийских городов. Первыми на помощь пострадавшим от разгула стихии пришли русские моряки с кораблей "Слава", "Цесаревич" и "Адмирал Макаров", которые находились в Средиземном море в учебном плавании с гардемаринами Морского корпуса на борту. Среди них был и гардемарин Павел Воронов.
Ольга представляла себе землетрясение по картине Брюллова "Последний день Помпеи". Тем значительнее казалось ей все, что пережил и совершил в Мессине отважный юноша. Возможно, именно с той поры и запал в ее сердце высокий молодой офицер, рассказывавший о страшных событиях с подкупающей простотой и скромностью.

Павел Воронов в окружении царских дочерей, борт яхты "Штандарт"
Он нравился всем - Николай II охотно выбирал его в партнеры по лаун-теннису, а старшие дочери - в кавалеры на танцах и в спутники на горных прогулках. Цесаревич Алексей, болезненный от природы, устав в пути, с удовольствием перебирался к нему на руки. Мало-помалу мичман, а с 1913 года лейтенант Воронов сделался непременным участником едва ли не всех общесемейных событий в Ливадийском дворце.

Ольга, император Николай II, Павел Воронов...
Молодые люди слишком увлеклись. На танцах Воронов чаще всего приглашал Ольгу, постоянно выражал радость при встречах с царской дочерью. Домочадцы и придворные не могли не заметить, что на балу, устроенном на «Штандарте» в день 18-летия великой княжны, она чаще всего и охотнее всего танцевала с мичманом Вороновым...

Великая княжна Ольга в 18 лет

Несомненно, что оба они, прежде всего Воронов, понимали всю безысходность своих отношений. Для него чувство долга и преданности своему Государю не позволяли питать хотя бы малейшую надежду на иной поворот судьбы.
Вскоре Воронову дали понять, что его женитьба на графине Ольге Клейнмихель, племяннице фрейлины, более чем желательна
. Он не посмел ослушаться. В ноябре 1913 года состоялась помолвка Павла Воронова и фрейлины Ольги Клейнмихель. Позже на свадьбу Воронова прибыл сам Император со всей семьей. "Поехали в полковую церковь на свадьбу Воронова и О.К. Клейнмихель. Дай им Господь счастья
." - так напишет в дневнике княжна Ольга...
Но она продолжит писать о Павле в своем дневнике до последних дней. "Узнала, он жив. Благодарю Господа!.. Спаси его, Господи!
" Спас его Господь от вражеских пуль во время войны. Спас от унизительной казни с отрезанием носа, которой подверглись в дни революционного разгула некоторые офицеры "Штандарта". Спас от кровавых "вахрамеевских ночей" в Севастополе, которые учинялись в декабре 17-го и феврале 18-го. Он с честью выжил. В годы Гражданской войны выполнял опасные поручения штаба Добровольческой армии. А когда военное поражение белых стало очевидным, отбыл из Новороссийска в 1920 году на английском крейсере "Ганновер" в Стамбул. Вместе с ним была жена - Ольга Константиновна. Из Турции он перебрался в Америку, где и скончался в 1964 году в возрасте 78 лет.
А Ольга? Великая княжна Ольга сестрой милосердия, как её сестры и мать, служила в госпиталях.
Т.Е. Мельник-Боткина: "Великая Княжна Ольга Николаевна, более слабая здоровьем и нервами, недолго вынесла страшную работу хирургической сестры, но лазарета не бросила, а продолжала работать в палатах, наравне с другими сестрами убирая за больными
".
"Первые годы войны, когда внимание всех было приковано всецело к фронту, совершенно, перестроили жизнь Великой Княжны Ольги. Из замкнутого круга Семьи с Ее простой, строго размеренной жизнью ей пришлось вопреки всем склонностям и чертам Ее характера повести жизнь работницы вне Семьи, а иногда и общественного деятеля... Часто Великим Княжнам приходилось Самим выезжать в Петроград для председательствования в благотворительных комитетах их имени или для сбора пожертвований. Для Великой Княжны Ольги это было непривычным и очень нелегким делом, так как Она и стеснялась, и не любила никаких личных выступлений " (П. Савченко).